Мухамадеева Л. А. Захват чехословацким корпусом Казани в 1918 г. (по материалам периодической печати и воспоминаниям участников)
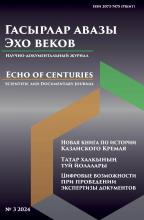
УДК 93/99
Захват чехословацким корпусом Казани в 1918 г. (по материалам периодической печати и воспоминаниям участников)
Л. А. Мухамадеева,
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ,
г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
The Capture of Kazan by the Czechoslovak Corps in 1918 (based on the materials of periodicals and memories of participants)
L. A. Mukhamadeeva,
Sh. Mardzhani Institute of History, the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan,
Kazan, the Republic of Tatarstan, the Russian Federation
Аннотация
Статья посвящена страницам начального периода Гражданской войны на территории Казанской губернии. Автор на основе материалов печати 1918-1920-х гг. воспроизводит события, связанные с захватом частями чехословацкого корпуса и белогвардейцев г. Казани. Мятеж чехословацкого корпуса, состоящего в основном из чехов и словаков, пленных и перебежчиков, отказавшихся воевать за Германию и Австро-Венгрию, охватил территорию Сибири, Урала и Поволжья. Учитывая, что к лету 1918 г. царская армия фактически перестала существовать, а Красная Армия и белогвардейские соединения только начали формироваться и довольно часто не отличались ни боеспособностью, ни боевым духом, чехословацкие войска оставались едва ли не единственной реальной вооруженной силой. К августу 1918 г. отряды корпуса вплотную подошли к Казани и начался штурм города. Несмотря на большие усилия большевиков, к этому времени не удалось парализовать контрреволюционеров в городе и организовать достойную внешнюю оборону. Недостаточная военная выучка, плохое снабжение красноармейцев и добровольцев, предательство в рядах высшего офицерского состава, вооруженные вылазки заговорщиков внутри города стали основными причинами захвата Казани врагом. В августе-сентябре 1918 г. город находился под контролем Комуча, власть которого признали и белочехи. В городе происходили массовые репрессии и самосуды в отношении большевиков и сочувствующих им. Выбор настоящей темы автором вызван неподдельным интересом к событиям начального периода Гражданской войны на территории Татарстана. Взятие частями белочешского корпуса – единственный случай в истории Гражданской войны, где одним из основных и решающих ее эпицентров становится Казань. Новизна темы состоит не только в привлечении в качестве источников средств массовой информации того периода, но и в освещении беспристрастного взгляда на происходящие события со стороны непосредственных участников событий – участников обороны города. Ими описан не только ход событий вооруженной борьбы за Казань, но и весь трагизм и участь города под властью чехословацкого корпуса и белогвардейских частей.
Abstract
This article is devoted to describe the pages of the initial period of the Civil War in the territory of the Kazan Governorate. Based on the materials of the press 1918-1920. the author aims to reproduce historic events related to the capture of parts of the Czechoslovak corps and the White Guards. The rebellion of the Czechoslovak corps, consisting mainly of Czechs and Slovaks, prisoners and defectors who refused to fight for Germany and Austria-Hungary, covered the territory of Siberia, the Urals and the Volga region. Paying attention to the fact that by the summer of 1918, the Tsarist army had effectively ceased to exist, and the Red Army and the White Guard units had only just begun to form and were often not distinguished by either combat capability or fighting spirit, the Czechoslovak troops remained almost the only real armed force. By August 1918, the corps units came close to Kazan and began the assault on the city. The Kazan Army was still in service. Despite the great efforts of the Bolsheviks, by this time it was not possible to paralyze the counter-revolutionaries in the city and organize a decent external defense. Due to insufficient military training, poor supply of Red Army and volunteers, betrayal in the ranks of senior officers, armed raids of conspirators inside the city became the main reasons for the capture of Kazan by the enemy. In August-September 1918 the city was under control of Komucha, whose power was recognized by the Belokchiks. Mass repression and mass executions of Bolsheviks and their supporters took place in the city. The choice of this topic by the author is caused by genuine interest in the events of the early period of the Civil War on the territory of Tatarstan. The capture of the Belokossky Corps by parts is the only case in the history of the Civil War where one of its main and decisive epicenters becomes Kazan. The novelty of the topic lies not only in the use of mass media of that period as sources, but also in the coverage of an impartial view of the events from the side of the direct participants of the events – the participants in the defense of the city. They described not only the course of events of the armed struggle for Kazan, but also the tragedy and fate of the city under the rule of the Czechoslovak Corps and White Guard units.
Ключевые слова
Гражданская война, Чехословацкий корпус, Красная Армия, Казань, заговор, штурм, оборона.
Keywords
Civil War, Czechoslovak Corps, Red Army, Kazan, conspiracy, assault, defense.
В отечественной историографии советского периода 17 мая 1918 г. считалось официальной датой начала Гражданской войны (1918-1920), что было связано с мятежом чехословацкого корпуса. Весной-летом 1918 г. это добровольческое соединение, сформированное в составе российской армии из бывших военнопленных австро-венгерской армии, пожелавших участвовать в войне против Германии и Австро-Венгрии, оказалось втянутым в боевые действия против Советской власти. Мятеж корпуса, части которого были растянуты по территории Урала, Сибири и Дальнего Востока, создал благоприятную ситуацию для ликвидации органов Советской власти на местах. В целом, вооруженное выступление чехословацкого корпуса стало толчком к консолидации антибольшевистских сил летом 1918 г. на Востоке России.
Активизация белочехов в Поволжье стала угрожать и Казани, которая являлась ареной военных действий в августе-сентябре 1918 г. Приближение корпуса к Казани вынудило большевиков предпринять предварительные меры по защите города. По полученным Казанским военным комиссариатом от 28-30 мая сведениям, находившиеся в г. Пензе чехословацкие эшелоны, организованно выступили против Советской власти. Пенза была окружена ими со всех сторон. К 31 мая из занятых ими трех вокзалов советскими войсками было отбито два. Часть своих сил чехи направили в г. Сызрань и также заняли там вокзал. Общее количество выступивших против Советов достигало 3-4 тысячи, не считая тех, которые стояли на ст. Кузнецк, не предпринимая активных действий. Из Самары и Саратова большевиками были высланы отряды для охраны Сызранского моста через Волгу. Такой же отряд был выслан и из Казани. Кроме того, из Казани в Пензу, Уфу и Самару была выслана пехота и артиллерия1.
Чехословацкий мятеж вдохновил противников Советской власти. Как писала газета «За землю и волю», в связи с раскрытием контрреволюционного заговора в Москве, «нити заговора» были обнаружены и в Казани. Были проведены многочисленные обыски и аресты, результаты которых дали ценный материал советским властям. При этом выяснилось, что заговорщики имели сношения с отдельными правыми социалистами-революционерами. Отсюда делался вывод, что не имеется никаких сомнений, что в Казани, как и в Москве, готовился переворот, имевший целью вернуть «старые николаевские порядки» путем вооруженного восстания. Следствие велось специальной комиссией по борьбе с контрреволюцией, которая намеревалась огласить весь имеющийся у нее материал по делу2.
14 июля 1918 г. на основании решения Совета народных комиссаров от 8 июля того же года и приказа народного комиссара Казанской губернии по военным делам был опубликован приказ комиссариата по военным делам Казанского уезда. Согласно приказу, объявлялся призыв на военную службу крестьян и рабочих, имеющих право выбора в Советы рабочих и крестьянских депутатов, родившихся в 1895 г. и проживавших ко времени призыва в Казанской губернии. Все подлежащие призыву должны были явиться с документами в Казанский Кремль (здание бывшей школы прапорщиков). Все прибывшие зачислялись в казенное довольствие, а обеспечение их семей должно было производиться органами социального обеспечения. К уклонившимся от призыва применялись наказания в соответствии с революционными законами3.
Тем не менее, не редкостью стали уклонение и дезертирство из рядов Красной Армии накануне вторжения белочехов. Так, в июле газета «За землю и волю» опубликовала очередной список лиц – добровольцев Татаро-башкирского батальона, бежавших при отправлении их на фронт: К. Саддаров, З. Хакимов, К. Шарафутдинов, А. Идиатуллин, С. Мухаметзянов, Г. Незамутдинов. Милиции и агентам судебно-уголовной милиции рекомендовалось принять меры к их розыску, в случае обнаружения задержать и направить к коменданту г. Казани для предания таковых Военно-революционному суду. В случае их желания вновь поступить на службу, всем частям предлагалось не принимать означенных лиц в ряды Красной Армии, а также задерживать для предания суду4.
В газетах 1920-х гг. печатались воспоминания о событиях, связанных с захватом Казани белочехами, обстановка и ситуации, связанные с ним. По воспоминаниям секретаря Западно-Сибирского оперативного штаба Габидуллина, в июле 1918 г., он с отрядами Красной Армии отошел от Тюмени в г. Камышлов. 18 июля на имя Комиссариата по мусульманским делам Тюменской губернии была получена телеграмма от М. Вахитова с требованием выехать в Казань в распоряжение Центральной мусульманской военной коллегии, которая к тому времени переехала из Москвы в Казань и приступила к организации татарских красноармейских частей. В начале августа из Перми на пароходе выехали через Нижний Новгород в Москву активисты и ответственные работники комиссариата. Слухи о быстром приближении чехов и захвате ими Богородска подстегнули путников, но в Чистополе они узнали, что дорога на Казань чиста. 3 августа Габидуллин со своими людьми был в Казани, которая жила обычной жизнью5.
Незадолго до чехословацкого восстания под влиянием левых эсеров на почве неприятия Брестского мира, Казань объявила себя автономной советской республикой. Как писала газета «Известия ТЦИК», понимание этой автономии было настолько сильным, что нарком по военным делам Казанской (Татарской) республики левый эсер Ефремов отдавал приказы, аннулировавшие приказы наркома РСФСР по военным делам Л. Троцкого. По собственному почину левые эсеры пытались создать отдельную Поволжскую армию, не считаясь с указаниями из центра. Приказы об отправлении вооруженных отрядов в те или иные участки «Красного» фронта, уже образовавшегося в то время на юге, не исполнялись, т.к. непосредственной угрозы Казани не было. Первый отряд был послан на Дутовский фронт в Оренбургскую губернию, когда Дутов прервал путь из Ташкента в Самару, тем самым угрожая Поволжью.
В Казани были большие интендантские и артиллерийские склады, дававшие возможность одеть и вооружить несколько дивизий. Левые эсеры добились того, что коллегия комиссаров по управлению Казанским военным округом, в состав которой входили преимущественно коммунисты (Ежов, Скачков, Межлаук), была распущена, и управление военными делами полностью перешло в руки Ефремова. Его усилиями военным руководителем по формированию красных полков был допущен монархист, бывший штабс-капитан Колесников. Последний, в свою очередь, старался «подобрать самое отчаянное контрреволюционное офицерство, которое ставил в качестве комсостава к красноармейцам»6. Результаты этого проявились довольно быстро, как писала газета, с разных фронтов начали приходить телеграммы о том, что казанские отряды крайне неустойчивы и часто отступают. Бывшие офицеры перебегали к белым, а оставшиеся без командного состава, не имеющие надежного политсостава, подвергались панике и разложению.
Газеты вспоминали еще об одном факте, который происходил в те дни в Казани – «муравьевщине». М. А. Муравьев – бывший царский полковник, примкнувший после Октябрьского переворота к советской власти как левый эсер. Прибыв в Казань, он сразу взялся за офицерство и заявил, что все бывшие офицеры должны вступить в Красную Армию. Он гарантировал им старые офицерские права, кроме золотых погон, а также подчинение красноармейских масс – «дисциплину». «Дисциплина» Муравьева выявилась тем, что по его приказу из пулеметов и орудий был расстрелян пароход «Бухара», переполненный красноармейцами, которые, будучи не снабженными, отказались ехать на фронт.
Его интересы объяснялись принадлежностью к партии левых эсеров, желавших заключить мир с чехословаками и продолжить войну с Германией. С этой целью, он делал большие усилия по подчинению войск своей воле. Выявив замыслы Муравьева, казанский комитет большевиков принял меры к его аресту. Однако он успел сбежать в Симбирск, где попытался осуществить переворот, но был убит латышскими стрелками.
Вскоре в Казань прибыли члены Революционного военного совета: Кобозов, Мехоношин, Подвойский. Кроме того, в Казани начал формироваться Штаб Восточного фронта, командующим был назначен Вацетис. Как отмечалось, в этот штаб проникли белогвардейские офицеры – «муравьевцы». Чрезвычайная комиссия (руководитель Лацис) не смогла справиться с заговорщиками и левоэсеровской политикой, несмотря на то, что они уже работали, не соблюдая конспирации. С изменой Муравьева в Казани и Симбирске чехословацкий фронт приблизился на 22 версты.
В конце июля и начале августа 1918 г. из Казани высылались боевые отряды и направлялись в направлении к Симбирску, уже взятому чехами. Так, отряд Трофимова шел по правому берегу Волги в составе 350 штыков, 2 орудий и 100 сабель. В Спасске на левом берегу был сосредоточен 1-й латышский полк под командованием Тиле. Противник наступал из Симбирска в составе 800 человек пехоты, 3 орудий, 2 броневиков, с левобережья Волги наступал чехословацкий полк в составе 2 400 штыков. В первых числах августа части Красной Армии отступили к северу. Полки 1-й советской пехотной дивизии, мобилизованные из Спасского, Тетюшского и Свияжского уездов Казанской губернии, еще не были снаряжены и вооружены. Взрывы шрапнелью над Казанью стали полной неожиданностью. Штаб Восточного фронта официально заявил, что это учебная стрельба. Но, когда латышские стрелки начали стрельбу по чешским пароходам на Устье, стало ясно, что это далеко не учебная стрельба. К вечеру 6 августа латышским полком атака была отбита, что несколько воодушевило остальные, довольно «неустойчивые» красные части. Они подтянулись на участок боев, которым командовал Авров7.
Прибывший в Казань секретарь Западно-Сибирского оперативного штаба Габидуллин был направлен для работы в штаб Восточного фронта в качестве комиссара связи и информации Мусульманской военной коллегии под руководством Маликова. Штаб Восточного фронта располагался в номерах Щетинкина. Многие работники штаба, в основном из бывших офицеров, преднамеренно старались скрыть от руководства местных властей и партии и от самого главкома Вацетиса истинное положение дел. 5 августа состоялась первая бомбардировка Казани, снаряды падали на Воскресенской улице, Булаке. Доводы о приближении белых во внимание не принимались, наоборот, все предупреждающие обвинялись в провокации, им грозили арестом8.
Ночью к Казани прорвался пароход противника, который высадил десант в районе Старое Аракчино и взорвал путь Московско-Казанской железной дороги. На следующий день путь был восстановлен рабочими Красной Горки (ныне Юдино). Одновременно белые высадили десант в Нижнем Услоне для захвата города и станции Свияжск, с намерением отрезать Казань от Москвы, откуда в скором времени ожидалось подкрепление. Несмотря на то, что от станции враг был отброшен 4-м латышским полком и бронепоездом «Свободная Россия № 1», город в итоге был взят.
Ночь с 6 на 7 августа была максимально использована белогвардейскими заговорщиками внутри Казани. Они быстро соорганизовались, вооружились и стали незаметно сосредотачиваться на путях отступления красных. Они засели в домах и стали активно обстреливать отступающих. В эту же ночь офицеры сербского интернационального батальона, расположенного в Лебедевских казармах, сагитировали солдат и перешли на сторону чехов. Незнание сербского языка комиссаром батальона не дало возможность заметить эту агитацию и предупредить измену. Большинство бывших офицеров 10-го и 2-го Советского полков, расположенных в Игумновских лагерях, пользуясь темнотой перебежали к белым. К утру в некоторых частях города заговорщики действовали уже отдельными отрядами, нападали на советские учреждения, расстреливали коммунистов. Так, в уездном военном комиссариате офицерами были расстреляны Муштаков и Терехин, которым, однако, удалось выжить в госпитале.
С утра 7 августа белое командование сосредоточило значительные силы в Кукушкино и одновременно повело наступление в трех направлениях: Артказармы (Сибирский тракт) путем обхода, Каргопольские казармы через юнкерские бараки и через Воскресенское на Крестовниковский завод. Одновременно производился обстрел Казани с судов. Небольшие отряды красноармейцев, встретившие противника у Кукушкино, серьезного сопротивления оказать не могли. Уже к 15-16 часам белые захватили Каргопольские и Артиллерийские казармы. Характерно, что в некоторых казармах белогвардейцы застали мирно обедающих красноармейцев, которые совершенно не были информированы о происходящих событиях.
Наиболее серьезный отпор белые встретили у Крестовниковского завода. Здесь сражались несколько отрядов, сформированных из рабочего ополчения, штаб которого находился при Губкоме партии. Но и они дрогнули, когда узнали, что белые заходят к ним в тыл через Рыбнорядскую и Суконную слободы. Некоторые побросали винтовки и спрятались в подвалах, другие стали отступать в Адмиралтейскую слободу на соединение с защитниками Устья. Неустойчивость в городе в значительной мере понизила их моральное состояние. В 17 часов белые захватили батарею, стрелявшую по их пароходам со стороны нефтяных баков. Попытки отбить ее не увенчались успехом. Здесь был ранен Фролов (товарищ председателя Казанского губсовдепа), который командовал 2-м советским полком. Позже, когда он увидел, что бой проигран, застрелился, не желая попасть в руки к белым.
К 18 часам белые заняли большинство частей города. На Проломной штаб Восточного фронта оборонялся одним орудием и горсткой латышских стрелков. Командующий Вацетис был вынужден бежать из штаба, т. к. он сам чуть не был арестован своими подчиненными, среди которых было немало сторонников Муравьева. Управление красными войсками прекратилось, в городе практически не осталось красноармейских частей, оставшиеся перешли на сторону белочехов. Среди них был и Бредис – командир 5-го латышского полка, который с собой увлек часть стрелков.
Главком Вацетис с остатками штаба и горсткой латышских стрелков около 22 часов стал пробиваться к северной окраине города и к утру в Дербышках сел на поезд в Сарапул. Защитники Устья с наступлением темноты также стали покидать свои позиции. Этому содействовал и колоссальный ливень, разразившийся над Казанью. Чехи ввели в бой тяжелую артиллерию с бронированной баржи. К утру 8 августа советские войска отступили от Казани во всех направлениях, и город окончательно перешел в руки белочехов9.
Как писал в своих воспоминаниях секретарь Западно-Сибирского оперативного штаба Габидуллин, прибывший в Казань накануне событий, в мусульманском партийном комитете (дом Землянова, ул. Московская) шла усиленная подготовка к баррикадным боям на улицах Казани. Во главе организованного мусульманского отряда стоял Касимов. 6 августа бои начались на улицах города. Габидуллин и Касимов неоднократно обращались в штаб Восточного фронта с требованием указаний и приказов, но получали насмешливое отношение со стороны штабных руководителей. Габидуллин в тот же день поехал в штаб Мусульманского социалистического полка и пытался установить связь полка с другими отрядами в татарской части города. В это время за Кабаном, в районе Суконной слободы, шла оживленная стрельба между наступающими отрядами белых и рабочими. На Проломной улице, около номеров Щетинкина, стояла трехдюймовка и стреляла вдоль Проломной, по направлению к Рыбному. Орудийная канонада шла и со стороны Волги.
Габидуллин с Алимовым взяли роту солдат и начали отходить к Сенной площади с таким расчетом, чтобы соединить разрозненных красноармейцев с мусульманским коммунистическим отрядом и оказать наступающим более упорное сопротивление. Однако тут их начали расстреливать с крыш и окон домов заговорщики, чем деморализовали отряд красноармейцев. Порядок удалось восстановить с трудом.
К ночи положение стало еще хуже, т. к. стало известно об измене штаба Восточного фронта и бегстве главкома Вацетиса с верными ему латышскими стрелками. Однако бои продолжались. Потеряв много убитых и раненых, отдельные группы татарских и интернациональных отрядов начали отход из Казани.
В поисках укрытия Габидуллин, не зная города, случайно встретил двух однопартийцев, с которыми решили бежать из Казани в сторону Высокой Горы. Но налет белогвардейского отряда около дер. Дербышки, где они хотели переночевать, заставил их разбежаться. Растерянный Габидуллин решил вернуться в Казань, где был арестован 9 августа и доставлен в комендатуру по улице Грузинской. Здесь он встретил избитого Касимова и других соратников. Под угрозой расстрела требовалось выдать единомышленников. Особенно плохо к ним относились татарские белогвардейцы.
Тюрьма была переполнена, следственная группа не успевала допрашивать арестованных. Тюрьма усиленно охранялась, ежедневно десятки людей уводились на расстрел. Белые часто посещали камеры и утверждали, что Москва уже взята, предлагали вступить в Народную армию. Однако Габидуллин с товарищами узнавали истинное положение дел. На прогулке он встречался с М. Вахитовым, который через несколько дней был расстрелян. Вахитов искренне верил в победу и не отчаивался, хотя и знал, что его расстреляют.
Однажды до Габидуллина с товарищами дошли слухи, что рабочие Казани недовольны «учредиловкой» и берутся за оружие. Вскоре они узнают, что группа коммунистов около 80 человек подлежат расстрелу, в т. ч. Габидуллин, Касимов, Губайдуллин. Но неожиданно уверенность у белых стала пропадать, красные окружали город кольцом. Белым уже некогда было расстреливать арестованных. 9 сентября они объявили, что красные разбиты наголову. Действительно, к вечеру наступила удивительная тишина, все ожидали худшего. Случилось так, что уже в 6 часов утра измотанных арестантов освободили вооруженные красноармейцы10.
По воспоминаниям члена Губисполкома А. Иванова, когда город был уже занят, начались самосуды, расстрелы, доносы. На 4-й день занятия Казани он был арестован и доставлен к коменданту 6-го района штабс-капитану Нестеренко, который произвел допрос. Затем Иванов был переведен в Понамаревскую гимназию к следователю, далее – на Грузинскую улицу в дом Оконишникова, где собрали много народа. Через два дня 40 человек отправили в Губернскую тюрьму. 6-7 сентября вся охрана разбежалась, кроме надзирателя, и вскоре все были освобождены Красной Армией11.
Репрессии доходили до анекдотических случаев. Так, казанцу похожему на Л. Троцкого и поэтому задержанного белогвардейцами с большим трудом удалось доказать обратное. Про другой случай писала газета «Рабочее дело»: «На 1 горе гражданин Брук был остановлен вооруженными чехословаками. Для удостоверения личности он предъявил документ от фабрично-заводского комитета типографии “Рабочее Дело”, затем, карточку от профессионального союза. Этого по-видимому, показалось мало и один из допрашивающих полюбопытствовал, какой он (Брук) национальности. Удовлетворившись ответами, чехословаки отпустили задержанного»12.
Ближе к освобождению Казани красными частями в городе активизировалось большевистское подполье. По воспоминаниям очевидцев, 3 сентября 1918 г. под руководством Российской коммунистической партии большевиков состоялось нелегальное собрание фронтовиков, где выступил Р. Е. Петров. В это же время рабочие Григорьевы устроили собрание на артиллерийском складе. Они привели на площадь роту вооруженных солдат. После речей выступающих толпа рабочих и часть мобилизованных солдат направились к артиллерийскому складу с намерением захватить оружие. Пришлось вступить в бой с охраной. Племянник Петрова – А. Абрамов, по поручению дяди повел роту солдат в бывшие Журавлевские казармы. Белый командир Степанов немедленно сообщил по телефону в город. Чехи немедленно выслали броневик и офицерский батальон. На складе оружия не оказалось, рабочие отступили к Устью, а невооруженные разбежались по деревням. Петров был арестован и вскоре расстрелян13.
В последующие годы проводились попытки понять причины падения Казани и вооруженного восстановления Советской власти, в т. ч. из сведений участников событий противоборствующей стороны. Во время судебного разбирательства над известным эсером Борисом Савинковым, ему задавались вопросы и о его нахождении в Казани в 1918 г. Он упоминал о чешском полке Швеца. Утверждал, что оборона Казани в значительной мере лежала на этом чешском полку. «Если бы не этот первый чешский полк, – говорил Савинков, – вы бы Казань взяли давным-давно. Швец дрался, потом застрелился, полк этот был совершенно измотан (другие чешские полки или не хотели драться, или же их не посылали, берегли). Чешский полк, – передаю это больше по казанским разговорам, – был недоволен тем, что русские не дерутся, а если и дерутся, то очень плохо. И когда этот первый чешский полк был снят с позиции, то фактически Казань обороняться не могла»14.
Таким образом, можно констатировать следующее: мятеж чехословацкого корпуса и приближение его частей к Казани создало угрозу Советской власти по всему Поволжью. Организованная большевиками оборона оказалась недостаточно эффективной, привела к полному поражению и захвату Казани. Основными причинами неудач стали предательство части офицеров, активизация заговорщиков внутри города и недостаточная подготовка и снабжение красноармейских частей.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За землю и волю. – 1918. – № 104. – 1 июня.
2. Там же. – № 109. – 6 июня.
3. Там же. – № 138. – 14 июля.
4. Там же. – № 141. – 18 июля.
5. Красная Татария. – 1924. – № 106. – 9 сентября.
6. Известия ЦИК. – 1923. – № 173. – 8 августа.
7. Там же.
8. Красная Татария. – 1924. – № 106. – 9 сентября.
9. Известия ЦИК. – 1923. – № 173. – 8 августа.
10. Красная Татария. – 1924. – № 106. – 9 сентября.
11. Там же.
12. Рабочее дело. – 1918. – № 155. – 9 августа.
13. Красная Татария. – 1924. – № 81. – 10 августа.
14. Там же. – № 106. – 9 сентября.
Сведения об авторе
Мухамадеева Лилия Абдулахатовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, e-mail: zgel21@mail.ru
About the author
Liliya A. Mukhamadeeva, Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher at Sh. Mardzhani Institute of History, the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, e-mail: zgel@mail.ru
В редакцию статья поступила 16.05.2024, опубликована:
Мухамадеева Л. А. Захват чехословацким корпусом Казани в 1918 г. (по материалам периодической печати и воспоминаниям участников) // Гасырлар авазы – Эхо веков Echo of centuries. – 2024. – № 3. – С. 28-36.
Submitted on 16.05.2024, published:
Mukhamadeeva L. A. Zakhvat chekhoslovatskim korpusom Kazani v 1918 g. (po materialam periodicheskoi pechati i vospominaniyam uchastnikov) [The Capture of Kazan by the Czechoslovak Corps in 1918 (based on the materials of periodicals and memories of participants)]. IN: Gasyrlar avazy – Eho vekov [Echo of centuries], 2024, no. 3, pp. 28-36.














