Е. П. Ключевская. К 130-летию Казанской художественной школы
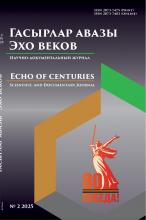
УДК 373.543(470.41-25)
EDN ABHCZV
К 130-летию Казанской художественной школы
Е. П. Ключевская,
Государственный музей изобразительных искусств
Республики Татарстан,
г. Казань, Республика Татарстан,
Российская Федерация
On the 130th anniversary of the Kazan Art School
E. P. Klyuchevskaya,
The State Museum of Fine Arts
of the Republic of Tatarstan,
Kazan, the Republic of Tatarstan,
the Russian Federation
Аннотация
В статье рассматриваются малоизвестные факты, предшествующие открытию Казанской художественной школы и первые три года ее деятельности. В этот период были заложены прочные основы ее дальнейшего существования, послужив фундаментом к развитию среднего специального художественного образования в Поволжье, вплоть до наших дней. Хотя историография Казанской художественной школы представлена рядом публикаций, включая монографию автора статьи, тем не менее обстоятельства и мотивы, предшествующие открытию школы, до сих пор не получили освещения в полной мере. Первый трехлетний период ее деятельности под руководством заведующего Н. Н. Бельковича не был предметом специального рассмотрения. Последующие 25 лет плодотворной творческой деятельности школы послужили фундаментом к развитию среднего специального художественного образования в XX в., вплоть до наших дней. Материалы Российского государственного исторического архива, Государственного архива Республики Татарстан, опубликованные отчеты Казанской художественной школы позволяют по новому оценить важный период в истории одного из крупных учебных заведений в системе художественного образования не только Поволжья, но и России. Каждое новое обращение к рассмотрению богатой истории Казанской художественной школы открывает новые детали, факты, меняющие смыслы и интерпретации ее деятельности, а равно и биографии тех, кто эту историю создавал.
Abstract
In this article the author examines the little-known facts proceeding to the opening of the Kazan Art School and first three years of its activity. During this period, a solid foundation was laid for its future existence, serving as the basis for the development of secondary specialized art education in the Volga region, which continues to this day. Although the history of the Kazan Art School has been presented in a different number of publications, including the author’s monograph, the circumstances and motives leading up to the school’s opening have not yet been fully explored. The first three-year period of its activity under the leadership of Director N. N. Belkovich was not the subject to the special consideration. The subsequent 25 years of fruitful creative activity at the school served as the foundation for the development of secondary specialized art education in the XXth century, right up to the present day. The materials from the Russian State Historical Archive, the State Archive of the Republic of Tatarstan, and the published reports from the Kazan Art School allow us to reassess an important period in the history of one of the major educational institutions in the art education system not only in the Volga region, but also in Russia. Each new examination of the rich history of the Kazan Art School reveals new details and facts that change the meaning and interpretation of its activities, as well as the biographies of those who created this history.
Ключевые слова
Императорская Академия художеств, реформа Академии художеств, городская дума, земство, выставки, библиотека, архитектурное отделение, граверное отделение, рисовальные классы.
Keywords
The Imperial Academy of Arts, reform of the Academy of Arts, city council, local government, exhibitions, library, architecture department, engraving department, drawing classes.
Создание Казанской художественной школы (КХШ) непосредственно связано с реформой Императорской Академии художеств 1893 г., наименее изученной из всех российских реформ XIX столетия. Институциональные проблемы, накопившиеся в Академии художеств и тормозившие развитие русского искусства, стали предметом особого внимания императора Александра III, который, как известно, из всех русских монархов особенно отличался тонким художественным вкусом. По его инициативе было начато реформирование Академии художеств, занявшее более трех лет. Реформы затронули вопросы государственной политики в сфере художественного образования, гражданской и придворной истории, «истории повседневности» и искусствознания. Ключевая фигура в искусстве и художественной жизни рубежа XIX-XX вв., А. Н. Бенуа, реформатор, отнюдь не обласканный властью, отмечал, что царствование Александра III «было, в общем чрезвычайно содержательным и благотворным», поскольку «подготовило тот расцвет русской культуры, который, начавшись еще при нем, продлился затем в течение всего царствования Николая II»1. «Разноречивые мнения об Александре III, – по мнению современных исследователей, – не могут устранить очевидности того бесспорного факта, что роль державного покровителя русского искусства он исполнил с поистине царским блеском, а из всех его преобразований самым удачным явилось наименее известное – реформа Академии художеств»2.
Господствующий в искусствознании долгие годы тезис о прогрессивности передвижничества, противопоставлявшего себя академии, и регрессивности академизма, равно как и роли руководителей академии из числа лиц императорской фамилии, становится предметом нового рассмотрения. Наше время задает новый вектор исследований – возвращение к подлинной истории. Особую роль в реформировании академии, в результате которого она была разделена на собственно академию и Высшее художественное училище сыграли два выдающихся деятеля своего времени – великий князь Владимир Александрович, родной брат Александра III, президент Академии и граф Иван Иванович Толстой, правнук фельдмаршала Кутузова, вице-президент Академии, государственный деятель, ученый-нумизмат, археолог, знаток искусств.
Великий князь Владимир Александрович (1847-1909) – тре-
тий сын Александра II и Марии Александровны, принцессы Гессен-Дармштадской, как и все представители Дома Романовых, не избежал военной карьеры – генерал от инфантерии, генерал-адъютант, командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа, участник русско-турецкой кампании 1877-1878 гг., а также член Государственного Совета, сенатор, почетный член Академии наук и Михайловской артиллерийской академии. В 1876-1909 гг. – президент Академии художеств. Время президентства Великого князя Владимира Александровича по мнению историков, составляет наиболее славную эпоху в жизни и истории Императорской Академии художеств. Взгляды на российскую государственность и культуру Александра III и его брата Великого князя Владимира Александровича во многом совпадали. Объединяло их и общее стремление способствовать расцвету национального искусства. При Владимире Александровиче академия не только широко участвовала в международных и всемирных выставках, но и сама организовывала на них русские отделы. По свидетельству современников президентство Владимира Александровича связанно с крупными событиями в истории русского искусства: введение нового Устава Академии художеств 1893 г., реформа академии и основание Русского музея имени Императора Александра III в Санкт-Петербурге (ныне – Государственный Русский музей). Современники отмечали, что исключительно его личному почину «обязано своим началом и самое большое дело академии – устройство и организация художественных школ в Одессе, Казани, Тифлисе и других городах, что поставило академию во главе обширного художественного дела государственного значения: распространения художественного просвещения в нашем отечестве»3.
Граф Иван Иванович Толстой (1858-1916) в одном лице совмещал государственного деятеля, придворного – гофмейстер Двора Его Императорского Величества, Министр народного просвещения (1905-1906), Санкт-Петербургского (петроградского) городского головы (1912-1916) и крупного ученого – автора многих научных работ, переведенных на иностранные языки, археолога, нумизмата, знатока искусств, конференц-секретаря (с 1889) и вице-президента (1893-1905) Академии художеств. Особое внимание на протяжении всей своей деятельности он уделял вопросам развития среднего образования и провинциальных культурных учреждений. И. И. Толстой имел репутацию честного и прогрессивно мыслящего чиновника. Принимал деятельное участие в составлении нового устава академии и в коренном преобразовании ее, находил много общих интересов с великим князем Владимиром Александровичем, любившим и хорошо знавшим искусство. «В своем желании влить в академию новые, свежие силы он опирался прежде всего на Репина,.. Внутренняя симпатия, которую Репин питал к Толстому, как человеку дельному, умному и честному, способному принести много пользы русскому искусству, сказалась в очень живо трактованном образе. Выразительный, красивый по живописи портрет относится к числу лучших работ художника 1890-х годов»4. Непосредственное участие И. И. Толстой принял в судьбе Казанской художественной школы. В обширном эпистолярном наследии И. И. Толстого можно найти и письма казанцев – художников Н. Н. Бельковича, Г. А. Медведева, историка искусства Д. В. Айналова.
Идея учреждения Казанской художественной школы зародилась при весьма примечательных обстоятельствах. В связи с кончиной 19 ноября 1894 г. императора Александра III состоялась поездка депутации от города, земства и дворян Казанской губернии для участия в траурной церемонии. К концу XIX в. церемониал верховной российской власти отразил существенные перемены в общественном сознании – сакральный образ властителя – самодержца сменился образом государя – отца отечества, связанным со своим народом нерасторжимыми духовными узами, что и должна была продемонстрировать эта траурная церемония. Казанская депутация была также приглашена присутствовать на бракосочетании императорских величеств – Николая Александровича и Александры Федоровны. В ознаменование этого события у казанского городского головы возникла мысль об открытии в Казани какого-либо общеполезного учреждения. В то же время, воспользовавшись пребыванием в Санкт-Петербурге казанской делегации, несколько молодых художников, окончивших курс в академии в 1894 г., предложили мысль об открытии художественной школы в Казани и свои услуги по организации этого дела. 30 ноября 1894 г. в Совет Академии художеств была подана записка с ходатайством о разрешении и содействии в открытии школы в Казани за подписью Н. Н. Бельковича, Х. Н. Скорнякова, Г. А. Медведева, Ю. И. Тиссена, И. А. Денисова, впоследствии утвержденных художниками-преподавателями школы. Среди подписантов была также подпись еще не окончившего академию Л. В. Шервуда, сына академика В. О. Шервуда, далее в документах школы не значившаяся. По всей вероятности, подпись одного из представителей столь авторитетной для академии династии архитекторов, скульпторов, живописцев могла служить своего рода гарантом серьезности намерений группы5. Состоялись переговоры казанского городского головы С. В. Дьяченко с вице-президентом академии графом И. И. Толстым, в лице которого он нашел отзывчивого, деятельного и компетентного руководителя. Инициатива оказалась как нельзя кстати для обеих сторон – совпали нужное время и благоприятные обстоятельства: в октябре 1894 г. Академическое собрание создало Комиссию для обсуждения вопросов об организации художественных школ, как подготовительных учебных заведений, для Высшего художественного училища.
В результате казанская городская дума в ознаменование бракосочетания императора Николая Александровича и императрицы Александры Федоровны, постановила открыть художественную школу, ассигновав ей от города ежегодно 2 000 руб., отведя землю для постройки здания школы и «возбудив ходатайство о принятии нового учреждения под Августейшее покровительство Ее Императорского Величества Императрицы Александры Федоровны, что и было единогласно принято городской думой»6.
Бюрократические вопросы организации и финансирования нового учебного заведения, были решены в сжатые сроки. В декабре 1894 г. был представлен доклад Казанскому губернскому земскому собранию о новом учебном заведении с просьбой материальной поддержки со стороны земства, которое выразив сочувствие этому начинанию, ассигновало из своих средств 1 000 руб. в ежегодное пособие школе и 1 000 руб. на содержание стипендиатов при ней. В апреле 1895 г. Академия художеств, рассмотрев проект устава школы, направила его на заключение городской думы и губернского земства, со стороны которых было выражено полное согласие со всеми параграфами присланного Устава.
В августе 1895 г. президент Академии художеств, Великий князь Владимир Александрович разрешил открытие школы до утверждения Устава, назначив на должность заведующего школой художника Н. Н. Бельковича. Таким образом, Казань получила новое учебное заведение, а реформированная Академия художеств реализовала начало создания в провинции сети средних художественных учебных заведений, что составляло одно из новых направлений ее деятельности.
Резонанс о предполагаемом открытии нового учебного заведения в среде казанской интеллигенции, отразило мало известное письмо профессора Казанского университета Д. В. Айналова И. И. Толстому от 26 февраля 1894 г.: «Обращаюсь теперь к Вам, глубокоуважаемый Иван Иванович, за советом. Мне хочется написать в газетах не большую статью по поводу школы, ее задач и пользы для целого края, особенно развить пункт об архитектуре, которого, очевидно, не понимают у нас как следует. При существовании в наших губерниях прекрасного стиля деревянных построек (в Нижегородской, Пермской, Казанск[ой] губерн[иях]), преподавание и изучение архитектуры может стать здесь очень живым делом, действительно подняться до высоты истинно художественной. Как Вы посоветуете относительно этого пункта? Кроме того, я хочу остановиться в статье, в некоторой лишь мере, на истории художественного образования в Казани и подвести итог, который и покажет ясно, почему в Казани не видно нигде ничего, кроме олеографий и фотографий. Для того, чтобы ясно указать на те результаты, которые могут последовать от открытия школы и для Казани, и для целого края, мне надо знать, до некоторой степени хотя бы, самое устройство школы, ее круг предметов и права, а также и то, имеет ли школа какое-либо отношение, напр[имер], к фабричной деятельности и ремеслам, так как не все ученики могут попасть в Академию [художеств]. Из тех немногих знакомств, которые я сделал с художниками, я вижу, как обмен знаний важен для той и другой стороны, т. е. для практиков и теоретиков, а след[овательно], и для самого предмета»7. Д. В. Айналов не мог знать, что в Совет Академии уже была представлена «Пояснительная записка по поводу архитектурного отдела при художественной школе организуемой в г. Казани», А. Смирнова, содержащая по сути своего рода проект программы преподавания на архитектурном отделении, и ее обоснование, в том числе потребностями края «иметь более доступных выполнителей работ, чем те, которых готовит Академия художеств и Институт гражданских инженеров»8. Мало замеченным остался и тот факт, что Д. В. Айналов – исследователь и заведующий университетским музеем древностей и искусств, уже составивший себе заметное имя в науке (член Русского археологического общества (1890), Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете (1891), один из учредителей Казанского общества любителей изящных искусств (1895), почетный член Одесского общества истории и древностей (1896), секретарь совета возобновившего свою деятельность в 1899 г. Пушкинского общества литературы и искусства при Казанском университете), счел для себя возможным в 1896-1897 учебном году безвозмездно читать курс лекций по истории искусств в художественной школе.
Открытие Казанской художественной школы было одним из знаменательных событий 1895-1896 гг. В апреле 1895 г. был открыт Городской музей (ныне Национальный музей Республики Татарстан) в составе которого особое место принадлежало Музею имени А. Ф. Лихачева с многочисленными коллекциями русского и западноевропейского искусства, предметами археологии, нумизматики, этнографии, декоративно-прикладного искусства, что стало возможным благодаря согласованным действиям С. В. Дьяченко и вице-адмирала И. Ф. Лихачева, выкупившего коллекцию своего брата у наследников и безвозмездно передавшего ее в дар городу. Генеалогия рода Лихачевых, вклада отдельных его представителей в военную историю и культуру России стали предметом изучения, экспонирования и публикаций в рамках проекта Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (ГМИИ РТ) «Лихачевы. Жизнь как служение отечеству» (2023-2024 гг.), с участием Санкт-Петербургского Института истории РАН, Русского музея, Центрального военно-морского музея и ряда других учреждений, расширив границы понимания вклада этого рода в российскую культуру.
30 августа 1895 г. состоялось открытие памятника Александру II скульптора В. О. Шервуда, идеолога эклектического «русского стиля», одного из ведущих московских зодчих пореформенной эпохи, живописца, скульптора и теоретика искусства, академика (с 1872), почетного вольного общника (с 1882) Императорской Академии художеств. Важность для Казани этого события зафиксировала брошюра, составленная профессором А. И. Александровым – «Сооружение и открытие памятника императору Александру II в Казани: (краткий исторический очерк)»9. На открытие художественной школы В. О. Шервуд откликнулся передачей в дар школе своей только что вышедшей из печати книги «Опыт исследования законов искусства. Живопись, скульптура и орнаментика» (М., 1895) с надписью: «От всего сердца радуюсь открытию художественной школы в древней Казани. Осмеливаюсь поднести новому учреждению мой скромный и многолетний труд по исследованию законов искусства... Дай Бог, чтобы школа эта на пользу и славу дорогого нам отечества воспитывала истинно просвещенных художников...»10. Дар послужил основанием для создания школьной библиотеки – долгие годы единственной специализированной библиотеки по искусству в Казани. Спустя год после открытия школы библиотека уже насчитывала 68 наименований изданий в 99-ти томах. В ее составе были дары от великих князей Александра Михайловича и Георгия Михайловича издания «Кавказские походные рисунки Т. Горшельдта»11 и «23 000 миль на яхте Тамара»12, а также издания от Общества поощрения художеств, от Центрального училища технического рисования барона Штиглица, сборник русских орнаментов князя Голицына, 2 тома изданий гравюр на меди с картин европейских галерей (дар ученика Академии художеств А. В. Манганари), «Сборник рисунков деталей разных построек» (дар академика Академии художеств К. В. Лемоха), сборник художественно-промышленных рисунков был преподнесен профессором Д. В. Айналовым. Даже для своего времени эти издания были библиографическими раритетами.
1 сентября 1896 г. при скоплении большого числа народа состоялось торжественное открытие бюста-памятника Н. И. Лобачевскому, столетие со дня рождения которого исполнилось в 1893 г. На торжестве присутствовала дочь Лобачевского – В. Н. Ахлопкова, его ученики – сенатор А. П. Безобразов, попечитель Казанского учебного округа Б. А. Попов и другие. Инициатором создания памятника было Казанское физико-математическое общество, получившее средства на его установку от российских и зарубежных пожертвователей: научных обществ (например, Лондонского королевского общества), учебных заведений и частных лиц, а также общества Московско-Казанской железной дороги, наследников Алафузова, П. И. и И. И. Александровых и других казанских меценатов. Автором скульптурного бюста стала Мария Львовна Дилон (1858‑1932), первая в России женщина-профессиональный скульптор.
В череде этих знаковых в истории Казани событий, носивших порой характер общенародного торжества, открытие художественной школы не осталось незамеченным. «9 сентября 1895 г., в присутствии начальника губернии, тайного советника П. А. Полторацкого, Казанского городского головы действительного статского советника С. В. Дьяченко, предводителя дворянства Казанского уезда П. П. Перцова, ректора императорского Казанского университета Ворошилова, представителей от земства М. П. Останкова, К. Е. Юшкова, и Н. П. Бельковича, помощника попечителя Казанского учебного округа С. О. Спешкова, директора народных училищ Казанской губернии Никольского, учащих и учащихся, а также родителей и родственников последних был отслужен молебен и после приветственных слов г. начальника губернии тайного советника П. А. Полторацкого и Казанского Городского головы Действительного Статского советника С. В. Дьяченко, школа была объявлена открытой»13.
Имена вышеперечисленных официальных лиц не ассоциируются с теми или иными эпизодами казанской истории. Между тем, это были деятельные люди, разных сословий и слоев общества, которых объединяла возможность содействовать обогащению культурной и художественной жизни города и расширению сферы народного образования. Биографии каждого из них подтверждают их причастность к различным аспектам подобного рода деятельности. Для некоторых, например, для Бельковичей – Николая Павловича и его сыновей – Николая, первого заведующего КХШ, впоследствии гласного уездного земского собрания, Владимира, зав. отделом профессионального образования Казанского губернского земства, Павла, это становилось почти семейным делом. Они продвигали развитие кустарной художественной промышленности и народных промыслов в губернии и участвовали в создании сети учебных художественно-ремесленных мастерских. Занимались разработкой уставов учебных художественно-ремесленных мастерских в Пестрецах, Рыбной Слободе, Чебаксе, состояли членами Попечительских советов мастерских, неоднократно представляли Техническому совету Казанской губернской земской управы доклады о развитии профессионального образования, необходимости создания кустарных выставок и музея14.
В школу в 1895 г. было принято 109 человек, из них – 68 зачислены вольнослушателями. Большинство желающих обучаться в школе составляли представители мещанства, чиновничества, крестьянства. Но были и другие – например, дьякон Воскресенской церкви Казани, чье заявление о приеме в школу от 15 ноября 1895 г. сохранилось в архивных документах15. В списках учеников школы можно встретить и имена представителей одной семьи: сестры Зинаида и Ольга и их брат Дмитрий Агафоновы. Впоследствии они продолжили обучение в Высшем художественном училище Академии художеств16. И это не единичный пример, когда школа сводила и объединяла судьбы людей – А. Н. Белькович и Н. И. Фешин, К. Л. Мюфке и Н. Е. Арбузова, А. М. Родченко и В. Ф. Степанова, П. И. Котов и З. А. Кожевникова, Ю. И. Тиссен и А. М. Зелинская. Были среди первого выпуска КХШ и те, чье творческое наследие стало неотъемлемой частью нашей художественной культуры – Н. И. Фешин, П. П. Беньков, А. И. Фомин, Н. К. Евлампиев и др.
В год открытия школы при ней имелось пять стипендиатов Казанского губернского земства. С 1896 г. учреждены стипендии и от других земств: Корсунского, Царевококшайского, Малмыжского, Чистопольского, Цивильского, Алатырского, Тетюшского, Спасского и три стипендии Вятского земства.
На бесплатных воскресных рисовальных классах при школе 5 ноября 1895 г. обучалось до 90 человек, среди них дворяне, чиновники, лица духовного звания, купцы, потомственные почетные граждане, мещане, крестьяне, цеховые (ремесленники), по вероисповеданиям – православные, раскольники, евреи, католики, по профессиям и образованию – нижние воинские чины, учащиеся земледельческого училища, фельдшерской школы, музыкальной школы Гуммерта, Духовной академии, Ветеринарного института, Мариинской, Ксенинской, 1-й и 2-й мужских гимназий, учителя приходских и сельских училищ17. Удивительно, насколько востребованным оказалось преподавание изобразительных искусств и возможность овладения первоначальными навыками в этой области для широких кругов населения.
Первый заведующий школой Н. Н. Белькович (1868-1918) был утвержден непосредственно президентом Академии художеств великим князем Владимиром Александровичем. Впоследствии, в соответствии с Уставом школы, должность заведующего стала выборной. За короткий трехлетний срок своего руководства школой Белькович полностью реализовал программу живописного отделения – от класса элементарного рисования до фигурного, открыл в 1896 г. граверное и в 1897 г. архитектурное отделения, учредил при школе воскресные бесплатные рисовальные классы для «художественного развития ремесленников и других лиц». Кроме того, «дабы дать разумный отдых ученикам и способствовать их культурному развитию» по его инициативе проводились воскресные чтения и вечера набросков. При Бельковиче были заложены основы художественного музея и библиотеки, учреждены ежегодные выставки местных художников с привлечением крупных мастеров отечественного искусства, с которыми он состоял в переписке.
Н. Н. Белькович инициировал постройку собственного здания для школы, что обеспечило дальнейшее развитие учебного заведения. В вопросе финансирования строительства школы и отведения городского участка под его возведение заметная роль также принадлежала Н. Н. Бельковичу. К концу третьего года работы школы стало очевидным, что ее высокая репутация и авторитет в обществе вступают в противоречие с тяжелыми бытовыми условиями ее существования: «Наемное помещение, которое до сих пор занимала школа не удовлетворяет самым насущным потребностям школьного дела по своей тесноте, неприспособленности, отсутствии достаточного и правильного освещения и полному отсутствию вентиляции, что особенно вредно отзывается на здоровье учащихся вечерних рисовальных классов, освещаемых большим количеством керосиновых ламп... Отсутствие помещения лишает школу возможности устроить музей и библиотеку, столь необходимую для правильного развития и затрудняет устройство выставок, т. к. на время открытия выставки приходится закрывать многие классы» – писали в «Докладной записке о необходимости постройки Казанской художественной школы» в Совет Академии художеств ее авторы Н. Н. Белькович и К. Л. Мюфке18. Направленный в школу академик А. Г. Мясоедов для выяснения обстоятельств на месте, подтвердил то же: «Квартира в которой помещается школа по контракту на 3 года, совершенно не приспособлена и не может быть приспособлена для подобной школы рисования, состоя из лабиринта маленьких комнат расположенных в разных этажах, соединяясь деревянными надстройками, далеко не безопасна в пожарном отношении, т. к. коридоры и помещения требуют постоянного лампового освещения. Классы помещаются в небольших комнатах и переполнены учениками, которые принуждены работать в накаленном лампами воздухе, в котором почти невозможно дышать» – говорилось в его докладной записке от 29 сентября 1898 г. в Совет Академии художеств19. Вместе с тем, А. Г. Мясоедов отметил: «Если обратиться к деятельности школы независящей от ее материального положения, то картина сразу меняется. Несмотря на тягостные условия в которых приходится работать учащим и учащимся не заметно было праздности и уныния, напротив, дело ведется с большой любовью и толково,.. плохих работ не видно, полное отсутствие небрежности и легкого отношения к делу. Общий уровень по оконченности и правильности рисунка мне показался выше уровня Московской школы,.. чувствуется отсутствие рутины и искание новых способов обучения»20.
Вопрос о выделении участка земли под строительство здания школы Н. Н. Белькович возбудил перед городской думой в январе 1896 г. и добился его положительного решения. «Волжский вестник» писал: «Место на Арском поле по мнению заведующего школой Н. Н. Бельковича является самым удобным из существующих в городе свободных мест (учтены неудаленность от центра, что скажется на посещаемости будущего музея, возможности проводки электроосвещения и др.)... Дума 20 января при рассмотрении дополнительной сметы, констатировала, что едва ли можно найти более подходящее место, чем то, которое избирает себе сама школа. Следует одного только пожелать, чтобы здесь была воздвигнута в полном смысле слова – художественная школа»21.
В итоге к строительству здания школы на несколько лет было приковано внимание широкого круга лиц – от Совета Академии художеств до казанского губернатора. Тесная переписка по вопросам строительства здания между К. Л. Мюфке и И. И. Толстым отложилась в архиве школы. Строительство здания под руководством К. Л. Мюфке стало апробацией на практике знаний его учеников по архитектурному отделению школы – В. Д. Караулова, В. Ф. Рогозина, Э. Я. Штальберга и др., участвующих в строительных работах в качестве техников. Благодаря К. Л. Мюфке, профинансировавшего из личных средств часть строительных работ и дорогостоящих материалов, школа получила едва ли не лучшее в Казани того времени специальное учебное здание, которое и поныне остается одним из замечательных памятников архитектуры.
В виду многих заявлений о желании обучаться на граверном отделении школы и необходимости открытия такого отделения, Н. Н. Белькович по письменному согласованию с И. И. Толстым предложил на должность руководителя художника-графика Ю. И. Тиссена (1864-1939), одного из подписантов письма об открытии школы22. Письмом от 13 сентября 1896 г. педсовет школы запросил также Академию художеств о высылке печатного станка и образцов гравюр для копирования23. Резолюция В. В. Матэ, академика, профессора, руководителя гравировального отделения Академии художеств, предопределила положительное решение этих проблем. Сохранилось письменное заключение В. В. Матэ от 29 сентября 1896 г.24 Нельзя не обратить внимания на то, как оперативно рассматривались Академией художеств вопросы, касающиеся нужд КХШ. На средства академии для школы был приобретен печатный станок в Лейпциге со всеми принадлежностями для печати, из фондов академии была передана коллекция гравюр крупнейших граверов классицистической школы – Н. И. Уткина, Е. П. Чемесова, Ф. И. Иордана, А. Ф. Зубова, Г. Ф. Шмидта в качестве учебных пособий25. Ученики Ю. И. Тиссена первого выпуска – Д. Д. Агафонов, Л. Ф. Овсянников, М. Сунцов, В. С. Щербаков продолжили обучение в Высшем художественном училище Академии художеств, что само по себе свидетельствовало об эффективности работы граверного отделения и его руководителя. С уходом Ю. И. Тиссена из школы в 1908 г. отделение было закрыто. Оно возобновило свою работу лишь в начале 1920-х гг. на совершенно иных творческих началах, дав основание крупным исследователям искусства Э. Ф. Голлербаху, В. Я. Адарюкову, А. А Сидорову говорить о казанской графике как о самобытном художественном явлении тех лет, что вряд ли могло произойти без учета опыта граверного отделения старой школы и заложенных ею основ понимания специфики печатной графики.
С первого года существования школы были заложены основы музейного собрания. Академия художеств присылая в качестве учебных пособий для рисования гипсовые отливы скульптуры античной классики и фрагментов архитектурных ордеров, не ограничивалась лишь подобного рода образцами. Наряду с ними были также гипсовые отливки с произведений Микеланджело, Б. Торвальдсена, А. Кановы, П. К. Клодта. В документах школы это собрание называется не иначе как «скульптурным музеем», в котором и проходили уроки рисунка. Как и упоминавшаяся выше библиотека, музейное собрание формировалось также дарами художников – профессоров и учеников академии – И. И. Шишкина (шесть этюдов и коллекция гравюр «Сосновый лес», «Обрыв (Овраг. Ручей)» ныне в собрании ГМИИ РТ), И. Е. Репина («Портрет О. С. Александровой-Гейнс», ныне собрание ГМИИ РТ), В. А. Плотникова, А. А. Борисова, И. А. Владимирова, А. Р. Эберлинга («Старая» и «новая» живопись», ныне собрание ГМИИ РТ), А. И. Кондаурова, А. А. Киселева («Вечер на Казбеке», ныне собрание ГМИИ РТ), М. П. Боткина (шесть акварелей и четыре рисунка), П. О. Ковалевского (23 рисунка), дарами мастерской В. В. Матэ, а также учеников – К. И. Тихомирова, Н. П. Химоны, Е. И. Столицы, А. В. Манганари26. Поступали дары и от преподавателей школы – Х. Н. Скорнякова (25 этюдов), И. А. Денисова (коллекция декоративных орнаментов), Н. Н. Бельковича (четыре художественных увража)27, К. Ф. Мюфке (его собственный «Проект военно-исторического музея» и шесть оригиналов ордеров)28. В отличие от произведений современных художников, поступающих в дар школе, особый интерес представлял дар госпожи О. И. Оптовцевой (урожденной Плешановой) – 15 этюдов масляными красками художника А. И. Иванова (1818-1863) и его же альбом рисунков и акварелей. Большую часть жизни художник прожил в Италии, в Риме, где и скончался, вследствие чего его картины в России представляли большую редкость29.
Впоследствии заметный вклад в музейное собрание школы был сделан Обществом им. А. И. Куинджи30. Другим существенным источником пополнения школьного собрания были выставки, как ученические, так и казанских и иногородних художников.
Только за первые три года деятельности школы было основано художественное собрание современных художников, а традиция дарений продолжилась во все годы существования школы. Со временем школьный музей стал единственным общедоступным, в отличие от частных коллекций, собранием современной русской живописи в Казани. Череда реорганизаций и слияний школы с другими учебными заведениями в 1926-1930-х гг. не способствовали сохранению этого уникального художественного собрания. Лишь отдельные произведения из него ныне находятся в ГМИИ РТ.
Роль добросовестного хроникёра всей жизни школы, взяла на себя газета «Волжский вестник», поместив только за три первых года более 30-ти посвященных ей публикаций. Газета анонсировала подготовку открытия школы, ассигнование средств на ее содержание Академией художеств, городской думой и земством, комментировала процедуру открытия с присутствующими на нем должностными лицами и представителями общества, опубликовала имена утвержденных преподавателей художественных дисциплин и общеобразовательных классов, ценз приемных испытаний поступающих, проект Устава школы, и программы преподавания общеобразовательных и специальных художественных дисциплин, деятельность воскресных бесплатных рисовальных классов при школе, а также приветственные телеграммы в адрес школы. Обмен приветствиями по случаю открытия школы был опубликован в «Волжском вестнике»: в ответ на телеграмму, отправленную группой педагогов сразу после открытия школы, от 10 сентября с заверениями «энергически работать на пользу родного русского искусства»31. И. И. Толстой ответил – «Благодарю вас и ваших товарищей за память и желаю всякого успеха, в котором не сомневаюсь, зная вашу и ваших товарищей энергию и преданность делу»32.
Обстоятельной статьей на открытие школы откликнулся Д. В. Айналов в «Волжском вестнике» 26 января 1896 г.: «Мы будем видеть результаты этой (школы) деятельности не только когда ученики школы уйдут в академию и заслужат имена художников, которыми будет гордиться русское искусство, но и в том, что все побывавшие в ней выйдут по возможности с воспитанным и развитым чувством к прекрасному, изящному, гармоничному в природе и человеке»33. Позже Д. В. Айналов войдет в члены Попечительного Совета школы.
Освещались и события школьной жизни, которые «небезследно пройдут для нашей публики»: «Публичные лекции в пользу художественной школы. Наступающий Великий пост не безследно пройдет для нашей публики... предполагаются ряд лекций по искусству, которые прочтет профессор университета Д. В. Айналов, сбор их будет предназначаться на усиление средств Казанской художественной школы... Первая будет посвящена известной картине А. Иванова “Явление Христа народу”, а вторая – картине М.-Анджело “страшный суд”. Чтение лекции будет иллюстрировано туманными картинами»34.
Отдельная тема публикаций – выставочная деятельность школы. Газета регулярно освещала как школьные ученические отчетные выставки, так и выставки местных и иногородних художников, также организуемые школой.
«Занятия в школе прекратятся 10 мая. В этот же день будет конкурсный экзамен ученическим работам, по которым и будут сделаны переводы в следующие классы лучших учеников... Этюды масляными красками с натурщика (класс этот открыт только со второго полугодия) производят весьма приятное впечатление. Особенно выделяются на наш взгляд работы учеников Давыдова, Спориуса, Безсонова,.. признаться мы никогда не могли ожидать ничего подобного в школе за один год ее существования. Ее успехи в художественном отношении буквально поразительны. Видимо преподаватели с любовью относятся к своему делу и тем заставляют энергично работать своих учеников... желательно было бы чтобы местные художники для большего развития художественного вкуса в нашем городе устроили бы выставку своих работ. Это был бы приятный сюрприз для Казани, т. к. мы не избалованы выставками»35.
«27 декабря в помещении школы открыта первая художественная выставка картин в которой приняли участие как преподаватели школы, так и другие местные художники, как то: Федоров, Кокорев и Сиклер и из иногородних: Пузыевский, Химона, Судковский, Плотников, Попов и Зарецкий»36. «Выставка эта кажется первая в Казани, в которой выступят местные художники, а потому нельзя не приветствовать ее добрым словом и не пожелать, чтобы она послужила основанием для ежегодных художественных выставок в Казани»37. Подводя итоги выставки, продлившейся до 12 января, «Волжский вестник» сообщал сведения не только о числе посетивших ее, но и имена тех, кто приобрел экспонируемые на ней произведения – М. Ф. Болдырев, заслуженный профессор Казанского университета (приобрел картину «Дорога» Химоны). В. В. Вараксин, гласный городской думы, владелец винокуренного завода («Крымский этюд» Химоны), Н. Н. Белькович, заведующий школой (картину «У дверей» Л. В. Попова). «Кроме того, – сообщала газета, – для музея были приобретены два этюда Химоны и 2 акварели Пузыревского. Косвенным образом выставка содействовала обогащению музея школы некоторыми весьма ценными вещами, а именно картиной Эберлинга «Старое и новое искусство» (ныне в ГМИИ РТ), двумя картинами Кондаурова «Кавказ» и «Опавшие листья», волжскими этюдами Скорнякова, этюдами Столицы, Химоны и Тихомирова. Все эти вещи подарены школе авторами»38.
Одновременно, в декабре, свыше 200 рисунков учеников школы были отправлены в Академию художеств в качестве отчета о ее деятельности. Работы экспонировались в зале Совета Академии. Академия постановила «выразить одобрение школе за ее деятельность»39. Постепенно в рецензиях на школьные выставки не только отмечались те или иные учебные штудии учеников, и избираемые ими темы для самостоятельных работ, но и обращалось внимание на стилевые тенденции изобразительного искусства, отражающиеся в работах учеников. В рецензии на выставку ученических работ открывшуюся 25 ноября 1897 г. автор отметил рисунки Кусковой, Зелинской, натюрморт Онуфриева, которые «производят прекрасное впечатление... В натурном классе встречаются работы написанные в излюбленной некоторыми художниками манере, стремящейся передать одно лишь непосредственное впечатление, без добавочной переработки его в сознании, хотя элемент крикливого импрессионизма к счастью не особенно выдвигается на первый план. Самостоятельные работы производят двоякое впечатление – благоприятное впечатление производит выбор сюжетов, свидетельствующий о наблюдательности и вдумчивости молодых людей, но бросается в глаза эскизность и неоконченность работ»40. Показательна отрицательная коннотация импрессионистических черт в работах тех учеников, которые не прошли мимо этого наиболее влиятельного течения в живописи тех лет. Термин «русский импрессионизм» и по сей день остается спорным, при том, что многие великие художники России к концу XIX в. отдали дань живописи на пленэре, не избежав общих тенденций импрессионистической живописи. В той же мере это относится и к упрекам в «эскизности» и «неоконченности», к которым охотно прибегали в живописи многие, как к сознательному приему в качестве нового творческого эксперимента во имя сохранения и передачи непосредственности и индивидуальности творческого почерка художника. Показательно и все еще не изжитое в оценке самостоятельных работ уравнивание литературно-сюжетного повествовательного начала с эстетическим качеством живописи.
Подобные ежегодные выставки ученических работ стали обязательными для всех семи школ, подведомственных академии. По количеству работ и по их художественному уровню лидировали Казанская и Одесская школы, что не раз отмечалось академией.
В организации выставок непосредственное участие принимал Н. Н. Белькович, ведя переписку и с вице-президентом И. И. Толстым, и с художниками-экспонентами.
В начальный период выставочной деятельности школы на выставках превали-
ровала стилистика петербургской академической школы. Впоследствии (с 1911 г. они проходили под названием «Периодические выставки местных и иногородних художников»), в них участвовали представители различных творческих объединений – Товарищество передвижных художественных выставок, Союза русских художников, Нового общества художников, академической «Весенней выставки», «Салона» – В. и А. Маковские, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, Г. К. Савицкий, К. Я. Крыжицкий, Д. Н. Кардовский, А. С. Архипов, С. А. Коровин, Л. О. Пастернак, Б. В. Мясоедов, В. В. Переплетчиков и др., экспонировался палестинский цикл произведений В. Д. Поленова, частное собрание живописи и графики О. С. Александровой-Гейнс.
Благодаря деятельности школы Казань стала крупным центром выставочной деятельности.
***
Впереди было еще 20 лет успешной деятельности школы (до ее реорганизации в 1918 г.), блестящий расцвет творческой и педагогической деятельности ее первых выпускников – Н. И. Фешина и П. П. Бенькова. А детище К. Л. Мюфке спустя десятилетия вновь используется по назначению, оставаясь знаковым памятником в архитектуре Казани.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Во главе Императорской Академии художеств... Граф И. И. Толстой и его корреспонденты. 1889-1898. – М.: «Индрик», 2009. – С. 38.
2. Во главе Императорской Академии художеств... – С. 37.
3. Кондаков С. Н. Императорская Академия художеств. – СПб., 1914. – Т. 1. – С. 53.
4. Ирина Шувалова // Санкт-Петербург: Портрет города и горожан. – СПб., 2003. – С. 395.
5. Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 789, оп. 12, д. 25-3, ч. 1, л. 1.
6. Отчет о деятельности Казанской художественной школы за 1897 гражданский год. – Казань. – С. 21.
7. Во главе Императорской Академии художеств... – С. 344-345.
8. РГИА, ф. 789, оп. 12, д. 25-3, ч. 1, л. 3-4.
9. Сооружение и открытие памятника императору Александру II в Казани: (краткий исторический очерк). – Казань, 1896.
10. Волжский вестник. – 1895. – № 252. – 11 ноября.
11. Горшельт Теодор. Кавказские походные рисунки. Вып. 1-6. Рис. [Т.] Горшельта; Изд. вел. кн. Георгия Михайловича. – СПб.: Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1896. Теодор Горшельт (1829-1871), немецкий живописец и рисовальщик, баталист. В качестве рисовальщика сопровождал экспедицию генерал-лейтенанта И. А. Вревского в Дагестан (1858); участвовал в зимнем походе генерала Н. И. Евдокимова в Чечню и в военных действиях против черкесов черноморского прибрежья (1859); был свидетелем пленения Шамиля; посетил Баку, Эривань и другие места, проведя пять лет на Кавказе. За рисунки кавказской серии был удостоен звания академика. Рисунки до настоящего времени не утратили большого историко-этнографического значения.
12. Радде Г. И. 23000 миль на яхте «Тамара»: путешествие Их Императорских Высочеств Великих Князей Александра и Сергея Михайловичей в 1890-1891 гг. / путевые впечатления д-ра Г. И. Радде: ил. академиком Н. С. Самокишем: Тип. Эдуарда Гопне, 1892. Путевые заметки Г. И. Радде (1831-1903), ученого-естествоиспытателя и путешественника, почетного члена Русского географического общества, включают описание морских пейзажей от берегов Атлантики до Индийского океана, заметки о повседневной жизни на корабле, а также содержат чертежи яхты и карты путешествия. Особую ценность представляют красочные иллюстрации художника Н. С. Самокиша, благодаря которым книга стала одним из лучших образцов книжной графики своего времени.
13. Отчет о деятельности Казанской художественной школы за 1897 гражданский год. – Казань. – С. 23.
14. ГА РТ, ф. 81, оп. 14, д. 6, л. 86-102; Доклад Экономическому совету Казанского губернского земства члена Губернской управы Н. П. Бельковича. – Казань: тип. Губ. правл., 1895.
15. ГА РТ, ф. 546, оп. 1, д. 5, л. 5.
16. Там же, д. 109, л. 125, 130. Ныне 17 живописных произведений З. Д. Агафоновой (1870-1942) хранятся в ГМИИ РТ, были переданы в дар ее сестрой О. Д. Агафоновой (1882-1965, Лепиловой по мужу, с которым были соучениками и по КХШ, и по Высшему художественному училищу Академии художеств, чьи произведения также хранятся в казанском музее), впоследствии жили и работали в Ленинграде. Д. Д. Агафонов (1883-?) окончил граверное отделение КХШ и Высшее художественное училище по мастерской В. В. Матэ (в 1909). Состоял слушателем Педагогических курсов при Академии.
17. Отчет о состоянии Казанской художественной школы за время ее существования с 1 сентября 1895 по 1 января 1896 г. – Казань, – С. 9, 10.
18. РГИА, ф. 789, оп. 12, д. 25-3, ч. 1, л. 609.
19. Там же, л. 76.
20. Там же, л. 76-77.
21. Волжский вестник. – 1896. – № 25. – 27 января.
22. РГИА, ф. 789, оп. 12, д. 25-3, ч. 1, л. 139.
23. Там же, л. 258.
24. Там же, л. 186.
25. Там же, л. 187.
26. Отчет о деятельности Казанской художественной школы за 1897 гражданский год. – Казань. – С. 14-15.
27. Отчет о деятельности Казанской художественной школы за 1896 год. – Казань. – С. 13
28. Отчет о деятельности Казанской художественной школы за 1897 гражданский год. – Казань. – С. 15.
29. Иванов-Голубой Антон Иванович (1818-1863) – живописец-пейзажист, представитель романтического академизма, ученик и друг братьев Григория и Никанора Чернецовых. В 1838 г. сопровождал братьев по Волге от Рыбинска до Астрахани, автор картины «Вид мастерской братьев Чернецовых на барке в путешествии их по Волге в 1838 году». Исполнил серию волжских пейзажей: «Вид на Волге в Жигулевских горах», «Гром в Соковских горах на Волге» (обе – 1839), «Вид села Винновка на Волге в Симбирской губернии» (1840), «Перевоз через Волгу в Симбирске» (1846). Ныне в собрании ГМИИ РТ: «Олевино близ Рима», «Горный пейзаж», «Пейзаж с домом», «Две женщины».
30. См. также: Лобашева И. Ф. Дары Императорской Академии художеств Казанской художественной школе в собрании Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Каталог выставки. – Казань, 2003.
31. Волжский вестник. – 1895. – № 225. – 10 сентября.
32. Там же. – № 228. – 13 сентября.
33. Там же. – 1896. – 26 января. – С. 3.
34. Там же. – № 33. – 7 февраля.
35. Там же. – № 109. – 9 мая.
36. Отчет о деятельности Казанской художественной школы за 1896 гражданский год. – Казань. – С. 17.
37. Волжский вестник. – 1896. – № 286. – 21 декабря.
38. Там же. – 1897. – № 14. – 16 января.
39. Там же. – 1896. – № 272. – 6 декабря.
40. Там же. – 1897. – № 292. – 25 ноября.
Список литературы
Во главе Императорской Академии Художеств... Граф И. И. Толстой и его корреспонденты. 1889-1898. – М.: «Индрик», 2009. – 939 с.
Ключевская Е. П. Казанская художественная школа. 1895-1918. – Санкт-Петербург: «Славия», 2009. – С. 237.
Лобашева И. Ф. Дары Императорской Академии художеств Казанской художественной школе в собрании Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Каталог выставки. – Казань, 2003.
References
Vo glave Imperatorskoj Akademii hudozhestv... Graf I. I. Tolstoj i ego korrespondenty. 1889-1898 [At the head of the Imperial Academy of Arts... Count I. I. Tolstoy and his correspondents. 1889-1898]. Moscow: “Indris” publ., 2009, 939 p.
Kljuchevskaja E. P. Kazanskaja hudozhestvennaja shkola. 1895-1918 [The Kazan Art School. 1895-1918]. Sankt-Peterburg: “Slavija” publ., 2009, p. 237.
Lobasheva I. F. Dary Imperatorskoj Akademii hudozhestv Kazanskoj hudozhestvennoj shkole v sobranii Gosudarstvennogo muzeja izobrazitel’nyh iskusstv Respubliki Tatarstan. Katalog vystavki [The Kazan Art School’s collection of the gifts from the Imperial Academy of Arts, housed in the State Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan. The Exhibition catalogue]. Kazan, 2003.
Фото предоставлены автором статьи.
The Photos are provided by the author of the article.
Сведения об авторе
Ключевская Екатерина Петровна, кандидат искусствоведения, заведующий методическим отделом Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, e-mail: epk474@mail.ru
About the author
Ekaterina P. Klyuchevskaya, Candidate of Art History, Head of the Methodological Department of the State Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan, e-mail: epk474@mail.ru
В редакцию статья поступила 17.03.2025, опубликована:
Ключевская Е. П. К 130-летию Казанской художественной школы // Гасырлар авазы – Эхо веков Echo of centuries. – 2025. – № 2. – С. 143-159.
Submitted on 17.03.2025, published:
Klyuchevskaya E. P. K 130-letiju Kazanskoj hudozhestvennoj shkoly [On the 130th anniversary of the Kazan Art School]. IN: Gasyrlar avazy – Eho vekov [Echo of centuries], 2025, no. 2, pp. 143-159.














