Д. В. Давыдов, Н. А. Федорова. Полигамия в семейной культуре татарского сельского населения в 1920 е гг. (на материалах ТАССР)
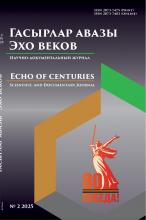
УДК 316.4
EDN LAKKXT
Полигамия в семейной культуре татарского сельского населения в 1920‑е гг. (на материалах ТАССР)
Д. В. Давыдов,
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ,
г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
Н. А. Федорова,
Казанский федеральный университет,
г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
The Polygamy in the family culture of the Tatar rural population in the 1920s
(based on the materials of the TASSR)
D. V. Davydov,
Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev – KAI,
Kazan, the Republic of Tatarstan, the Russian Federation
N. A. Fedorova,
Kazan Federal University,
Kazan, the Republic of Tatarstan, the Russian Federation
Аннотация
В статье рассматривается проблема сохранения полигамии в семейной практике татарского сельского населения в период 1920-х гг. по материалам Татарской АССР. Рассмотрены некоторые факторы сохранения полигамных отношений. Приведены статистические сведения, относящиеся к семейному состоянию сельского населения основных национальных групп по демографическим переписям 1897 и 1926 гг. Обращено внимание на позицию органов советской власти в сфере решения «женского вопроса». Рассмотрена деятельность женорганизаторов – отдельных представительниц женского актива в сфере борьбы с многоженством. Приведены свидетельства некоторых женщин-активисток, иллюстрирующие конкретные проявления полигамии в татарской среде. Сделан вывод, что активизация полигамии имела компенсаторный характер, она проявила свое действие в качестве механизма сохранения стабильности традиционных хозяйственных, культурных и семейных отношений. Нормализация социально-экономической жизни и развитие процессов модернизации привели к укреплению моногамии как основы семейной жизни татарского сельского населения.
Abstract
This article examines the problem of preserving polygamy in the family practice of the Tatar rural population during the 1920s based on the materials from the Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic. Some factors in maintaining polygamous relationships are considered. Statistical data information related to the family status of the rural population of the main national groups according to the demographic censuses of 1897 and 1926 is presented. The author’s special attention is paid to the position of the Soviet authorities in the sphere of resolving the “women’s issue”. The activities of women’s organizers – individual representatives of the women’s activists in the field of fighting against polygamy – are considered. Testimonies from some women activists are presented, illustrating specific manifestations of polygamy in the Tatar environment. It is concluded that the activation of polygamy was of a compensatory nature; it manifested itself as a mechanism for maintaining the stability of traditional economic, cultural and family relations. The normalization of the socio-economic life and the development of modernization processes led to the strengthening of monogamy as the basis of family life of the Tatar rural population.
Ключевые слова
Полигамия, татарское население, 1920-е гг., массовый голод, новая экономическая политика, семейный быт, женорганизаторы, эмансипация, Татарская АССР.
Keywords
Polygamy, the Tatar population, 1920s, mass starvation, new economic policy, family life, women’s organizers, emancipation, Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic.
В современных условиях размывания гендерных различий и легализации всевозможных форм брака вызывает общественный и научный интерес проблема исторического опыта борьбы с традиционализмом. В этом плане история России, прошедшей через три революции в начале ХХ в., может быть не только полезной для анализа современной ситуации, но и поможет избежать ошибок при выработке перспективной политики в демографической и социально-культурной сферах.
Изменение ценностных характеристик нередко является следствием масштабных социальных преобразований, проводимых революционным путем. Пришедшие к власти в октябре 1917 г. большевики имели целью построение коммунистического общества, где не будет места никаким формальным скрепам, в том числе и брачным. Объявив мужчину и женщину равноправными декретом «О гражданском браке» от 18 декабря 1917 г., они максимально упростили процедуру заключения и расторжения браков, полагая что семья – ячейка буржуазного общества и нужна она только для передачи нажитого имущества (частной собственности) по наследству. Следуя положениям Ф. Энгельса, высказанным в работе «О происхождении семьи, частной собственности и государства», политика советского руководства была направлена на искоренение семьи, как ненужного и бесполезного общественного института при коммунизме.
Упрощение процедур заключения и расторжения браков фактически легализовало свободу половых отношений, сторонниками которой являлись отдельные представители партийно-государственной элиты. Узаконенное декретами равенство мужчин и женщин подводило традиционные семейные отношения под прицел неустанной критики. Революционно настроенная молодежь втягивалась в борьбу «с отдельными пережитками патриархата», отрекаясь от наследия «буржуазного» прошлого. Между тем, проведение столь масштабных социальных экспериментов оказалось чревато потерей рычагов воздействия на массы через каналы традиционной культуры. Разрушение семьи неуклонно вело и к разрушению самого института государственности. Как следствие, к началу 1930-х гг. последовало возвращение к традиционным семейным ценностям, что позволило советскому правительству сохранить устойчивость социальных и государственных институтов и укрепить собственную власть.
Характерно, что приобретенный опыт решения гендерного вопроса не вышел за границы понимания традиционных ценностей, как моногамного союза мужчины и женщины. В то же время, сущность этого понятия отнюдь не исчерпывалась моногамией. На протяжении длительного периода развития цивилизации определилась совокупность факторов, обусловивших формирование и развитие полигамных отношений. Как известно, истоки полигамии лежат в конкретных формах взаимодействия общества с окружающей средой, в его приспособлении к сложившимся природным и географическим условиям. В частности, мы можем наблюдать прямую взаимосвязь распространения культуры полигамии с процессом развития кочевых хозяйств народов Урала, Поволжья, Алтая, Северного Кавказа и других регионов. На различные аспекты этой взаимосвязи обращали свое внимание этнографы, социологи, историки1. Полигамия отражала действие комплекса экономических и социальных ролей, подчиненных интересам выживания и развития общества, формируя соответствующую культуру гендерных отношений. Даже в наши дни, несмотря на существующие правовые и моральные запреты, полигамия продолжает быть объектом научных и общественных дискуссий, различные ее проявления остаются в поле зрения историков, социологов, теологов и прочих специалистов2.
Практики заключения полигамных браков в среде казанских татар, как уже неоднократно отмечалось в научной литературе, традиционно обуславливались подчиненным положением женщины в семье, ее экономической зависимостью от мужа3. Рассматривавший этот вопрос еще в XIX в. А. Ф. Риттих обращал внимание на то, что «жены татар живут между собой мирно... Старые жены, также матери, старухи, приживалки, услуживая молодым женам, занимаются хозяйством и кухней»4. Между тем, сведения, раскрывающие подробности семейной жизни татарского населения, оставались достаточно скупы и отрывисты. Отчасти это объяснялось стремлением самих татар оградить сферу своей личной жизни от посторонних глаз. Как отмечалось еще в одном описании быта татарского населения: «чем богаче и именитее татарин, тем более скрывает он жен своих»5.
Неоднозначную роль в процессе формирования культуры гендерных отношений сыграла государственная политика Российской империи. С одной стороны, ее основы укрепляли патриархальный уклад семейного быта, с другой – не поддерживали традиций многоженства как не соответствующие канонам православия. Соответственно, полигамные браки оставались в стороне от сферы действия права и официального статистического учета. В частности, сведений, отражающих количество и динамику полигамных браков в среде казанских татар, не обнаруживаются ни в этнографических описаниях, ни в материалах демографических переписей.
Отсутствие статистических сведений, отражающих состояние полигамных браков в среде татар Среднего Поволжья, было обусловлено и крайне незначительными масштабами их распространения. Подчеркивалось, что, несмотря на традиции ислама, допускающие многоженство, «очень немногие даже из богатых татар имеют более двух законных жен, а бедные более одной»6. Многоженство, таким образом, «явилось больше хозяйственной необходимостью или девиацией в брачном поведении мусульманского населения, чем религиозной нормой»7. К началу ХХ в. развитие экономической и правовой системы способствовало распространению ценностей индустриальной культуры: идеи феминизма стали менять сознание женщины. В процессе приобщения к достижениям европейской цивилизации «образованные татарки являлись противницами многоженства и настаивали на моногамных семейных отношениях»8.
В то же время, полностью изжить практику полигамии не удалось. Объективным фактором ее консервации и дальнейшего развития стало влияние последствий войн (русско-японской 1904-1905 гг., Первой мировой 1914-1918 гг., Гражданской) и массового голода, разрушивших сложившийся порядок социальной и хозяйственной жизни. Возвращение татарского населения к архаичным механизмам сохранения культуры семейных отношений в 1920-е гг. представляет весьма интересную, но в то же время и сложную задачу, обусловленную крайне ограниченным кругом источников. При отсутствии официальной статистики полигамных браков можно обратиться к косвенным данным результатов демографических переписей 1897 и 1926 гг., иллюстрирующим определенную динамику семейного состояния населения. Решению поставленной задачи в определенной мере могут способствовать материалы протоколов заседаний женсоветов, а также данные личного происхождения, в частности, воспоминания женщин-активисток.
Особенности семейной культуры населения Казанской губернии в конце XIX в. отразили данные Всероссийской демографической переписи 1897 г. (см. таблицу № 1).
Таблица № 1.
Распределение сельского населения Казанской губернии по семейному положению по итогам демографической переписи 1897 г.[1]
|
Семейное состояние |
Русские |
Татары |
||
|
Мужчины (в %) |
Женщины (в %) |
Мужчины (в %) |
Женщины (в %) |
|
|
Холостые и девицы |
171 922 (48,40) |
183 297 (51,60) |
187 956 (51,88) |
174 352 (48,12) |
|
Женатые и замужние |
142 238 (49,19) |
146 981 (50,81) |
118 059 (47,94) |
128 207 (52,06) |
|
Вдовцы и вдовые |
12 922 (28,80) |
31 937 (71,20) |
5 655 (18,68) |
24 613 (81,32) |
|
Разведенные |
94 (27,25) |
251 (72,75) |
164 (26,84) |
447 (73,16) |
Как видно из материалов таблицы № 1, количество незамужних женщин среди татарского населения несколько ниже количества холостых мужчин. По видимости, свою роль играли традиции заключения браков молодых девушек со зрелыми мужчинами, имеющими средства для выплаты калыма. В пользу сохранения определенного количества полигамных браков может свидетельствовать некоторое преобладание численности замужних женщин над женатыми мужчинами, несколько большая эта пропорция среди татар. Отношение вдов к вдовцам также наиболее значимо среди татарского населения: в 4,4 раза против 2,5 раз среди русского. Между тем масштабы распространения полигамии оказывались крайне незначительными. Обратимся к данным о населении, находящемся в разводе. Общее преобладание разведенных женщин над соответствующим числом мужчин объясняется, в первую очередь, более высокой продолжительностью жизни женщин. Интересен тот факт, что данная пропорция одинакова как для татар, так и для русских (преобладание женщин в обеих группах в 2,7 раза). Это может свидетельствовать об определенной стабилизации семейных отношений в татарской среде: упоминаемая в литературе практика «бухарских свадеб», когда богатый купец за большой калым брал жену на время пребывания на ярмарке, стала уходить в прошлое уже в последние десятилетия XIX в.9 Не следует забывать и об особенностях бракоразводного процесса: в татарской среде эта практика оказывалась более упрощенной по сравнению с русской средой. Приведенные данные, таким образом, могут подтверждать тезис о сокращении практики распространения полигамных браков к началу ХХ в.
Свои коррективы в практики семейной жизни внесли указанные выше драматические события первых десятилетий ХХ в. Обратимся к материалам Всесоюзной демографической переписи 1926 г. (таблица № 2).
Обращая внимание на часть сельского населения, состоявшую в браке, обнаруживаем диспропорцию в численности замужних женщин и женатых мужчин: первых оказалось на 27 036 человек больше количества вторых (против аналогичного показателя в 11 053 в 1897 г.)10.
Таблица № 2.
Распределение сельского населения Татарской республики по семейному положению по итогам Всесоюзной демографической переписи 1926 г.[2]
|
Семейное положение |
Мужчины |
Женщины |
Оба пола |
|||
|
абс. |
в % |
абс. |
в % |
абс. |
в % |
|
|
Холостые и девицы |
184 384 |
29,6 |
191 030 |
24,3 |
375 414 |
26,6 |
|
Женатые и замужние |
414 440 |
66,5 |
441 476 |
56,1 |
855 916 |
60,7 |
|
Вдовы |
20 036 |
3,2 |
141 974 |
18,0 |
162 010 |
11,5 |
|
Разведенные |
2 626 |
0,4 |
9 658 |
1,2 |
12 284 |
0,9 |
|
Неизвестное семейное положение |
1 803 |
0,3 |
2 535 |
0,3 |
4 338 |
0,3 |
|
Итого |
623 289 |
100,0 |
786 673 |
100,0 |
1 409 962 |
100,0 |
При этом 17 850 человек (66 %) из указанной диспропорции пришлось на татарскую часть сельского населения, 8 204 человека (30,3 %) – на русских, 982 человека (3,6 %) – на остальных (см. таблицу №2). Преобладание количества замужних женщин над количеством женатых мужчин можно объяснить отсутствием определенной части мужского населения. Однако демографическая перепись 1926 г. проходила в декабре, то есть в период наименьшего отходничества. Определенную роль в указанной диспропорции сыграла сама методика проведения опросов населения. Женатыми и замужними отмечались те, кто признавал себя состоящим в браке, даже при отсутствии официальной регистрации. При этом традиционно женщины, особенно имеющие детей, предпочитают считать себя замужними, в то время как мужчины называют себя холостыми. Обращает на себя внимание и факт некоторого преобладания женщин с неизвестным семейным положением.
Обращаясь к данным таблицы № 3, в первую очередь можно обратить внимание на определенный дисбаланс в численности холостых мужчин и незамужних женщин (3,42 % в пользу последних).
Таблица № 3.
Семейное состояние сельского населения основных национальных групп Татарской республики по итогам Всесоюзной демографической переписи 1926 г.[3]
|
Семейное состояние |
Русские |
Татары |
||
|
Мужчины (в %) |
Женщины (в %) |
Мужчины (в %) |
Женщины (в %) |
|
|
Холостые и девицы |
66 483 (47,36) |
73 904 (52,64) |
103 457 (50,78) |
100 284 (49,22) |
|
Женатые и замужние |
167 487 48,81 |
175 691 (51,19) |
208 313 (47,95) |
226 163 (52,05) |
|
Вдовцы и вдовые |
11 157 (16,21) |
57 703 (83,79) |
6 452 (8,10) |
73 173 (91,90) |
|
Разведенные |
1 046 (28,72) |
2 597 (71,28) |
1 376 (17,37) |
6 550 (82,63) |
|
Неизвестное семейное положение |
640 (40,25) |
950 (59,75) |
1 013 (42,17) |
1 389 (57,83) |
|
Итого |
246 813 (44,26) |
310 845 (55,74) |
320 611 (44,03) |
407 559 (55,97) |
Несколько меньшая диспропорция (0,86 %) наблюдается среди лиц обоего пола, находящихся в браке. Наибольшее искажение прослеживается в балансе численности вдовцов и вдов. В этом случае деструктивные последствия войн проявились в первую очередь в татарской среде – 91,9 % овдовевшего населения прошлось на женщин (против 83,79 % среди русских). Результаты Всесоюзной демографической переписи 1926 г. иллюстрируют дальнейший рост этого показателя за прошедшие 30 лет: с 2,6 раза в пользу женщин в 1897 г. до 8,1 раз в 1926 г.11 При этом среди татарского крестьянства это соотношение оказалось самым высоким – в 11,3 раза в пользу женщин, среди русских – в 5,2 раза, среди остальных – в 4,6 раза (см. таблицу № 3). Таким образом, разрушительное влияние войны и голода в наибольшей степени отразилось на положении татарских женщин.
Не удивительно, что с их стороны стало проявляться стремление к сохранению полигамных отношений. В первую очередь речь шла о праве жены на защиту со стороны мужа как главы хозяйства. В большей степени это касалось той части женщин, которая оказывалась наименее обеспеченной, такие как беднячки, многодетные матери, вдовы и пр. К тому же принятый ВЦИК в 1918 г. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве не предусматривал общности имущества супругов, что в определенной мере уравнивало статус жен в полигамном браке.
Материалы протоколов женских собраний отражают отношение части женского населения к полигамии. На одном из женских собраний в Буинском кантоне его участницы интересовались, почему советская власть не разрешит многоженства, поскольку без мужей жить тяжело12. Аналогичные настроения выражались на собрании женщин Алькеевской волости Бугульминского кантона. Здесь прозвучал вопрос: «почему мужчинам не разрешают иметь по нескольку жен, так как женщин больше, чем мужчин, и они лишены возможности выйти замуж и обеспечить свое материальное благополучие»13. Кроме того, по мнению части женщин, воспитанных в традициях ислама, многоженство укрепляло нравственные основы семьи. Так, на волостном женском собрании Сараловской волости Лаишевского кантона некоторые женщины мотивировали это право мужчин тем, что у последних в этом случае не будет повода ходить к другим женщинам. Наконец, по мнению самих женщин, полигамия могла укрепить экономические основы семейного хозяйства: во время болезни одной жены другая будет работать. Одна из выступавших на собрании женщин-татарок, указывая на висевший на стене портрет Крупской, сказала: «Пусть это дойдет до нее»14. Н. К. Крупская, жена и соратница В. И. Ленина, воспринималась как одна из главных защитниц интересов женщин. Ее выступления, беседы с представителями женского актива определяли направления дальнейшей работы многочисленных женсоветов по всей стране. Отдельные проявления позитивного отношения женщин к полигамии отмечались и позднее. Согласно сообщению инструктора женотдела Арского кантонного комитета ВКП(б) Каюмовой, посетившей ряд селений кантона в сентябре 1926 г., «в деревне Курса, где есть ячейка ВКП(б) на одном из собраний делегаток вынесли резолюцию – о разрешении многоженства и постановили договориться об этом с соответствующими органами»15.
Подобные настроения в женской среде входили в противоречие с установками советского правительства, в ноябре 1917 г. провозгласившего равенство мужчин и женщин. Инициированные большевистским руководством масштабные социальные преобразования оказались направлены на сокрушение основ традиционного быта, его устойчивости к внешнему воздействию. В. И. Ленин по этому поводу писал: «в области законодательства мы сделали все, что от нас требовалось для уравнения положения женщины с положением мужчины, и мы по праву можем этим гордиться»16. Но в то же время глава советского правительства был вынужден констатировать, что «равенство по закону не есть еще равенство в жизни» и «для этого надо, чтобы женщины-работницы все больше и больше участия принимали в управлении общественными предприятиями и в управлении государством»17. При этом конкретные механизмы вовлечения женского населения в активную политическую жизнь не были четко определены, они зависели от конкретных условий труда и быта самих женщин.
Фактический дуализм в положении сельской женщины, оказавшейся в 1920-е гг. под влиянием как традиционных, так и модернистских тенденций, особенно заметно проявился в правовой системе. С одной стороны, принятый в 1926 г. Кодекс о браке и семье провозглашал недопущение брака «между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже в другом браке» (ст. 16)18. С другой стороны, юридических механизмов противодействия многоженству создано не было: положениями Уголовного Кодекса РСФСР 1926 г. оно не было криминализировано. В 1928 г. в Уголовный Кодекс была добавлена статья Х «О преступлениях, составляющих пережитки родового быта». В комментариях к этому документу отмечалось: «Особенно остро чувствуют эти пережитки трудящиеся массы женщин национальных районов, такое наследство прошлого, как калым, многоженство и проч.»19. Примечательно, что эта статья, вводившая меры ответственности за такие деяния, как принуждение женщины к вступлению в брак, выплата калыма или вступление в брак с лицом, не достигшим брачного возраста, обходила стороной факт многоженства20. Лишь в последующие годы, в более поздней редакции Кодекса (от 11 января 1956 г.) появилась статья 199, согласно которой двоеженство и многоженство наказывалось исправительно-трудовыми работами на срок до одного года или штрафом до одной тысячи рублей21. Таким образом, созданная в 1920-е гг. юридическая практика фактически способствовала дальнейшему распространению полигамных отношений.
В отличие от официальных государственных органов, более непримиримую позицию в отношении к многоженству заняли многочисленные женсоветы, создаваемые при партийных комитетах. Возглавляемые активистками – женорганизаторами, эти органы решали комплекс задач, направленных на фактическое изменение правового и социального статуса женщин. В своей работе женсоветы применяли различные законодательные акты советского правительства, в частности, принятое в феврале 1925 г. ЦИК СССР постановление «О правах трудящихся женщин советского Востока и необходимости борьбы со всеми видами их закрепощения в области экономической и семейно-бытовой»22. Переведенное на татарский язык, постановление стало использоваться в практической деятельности для привлечения татарок в процесс эмансипации.
Обратимся к воспоминаниям Малики Хайрулловны Палютиной, женорганизатора, в начале 1920-х гг. работавшей в разных кантонах Татарской республики: «меня Обком партии в 1921 г. командирует в Буинск, где плохо была поставлена работа среди женщин-татарок… Там у богачей было по 2-3 жены и они ходили только к молодым, которых покупали за телку, за вспашку-обработку земли или за деньги»23. Далее она вспоминала о своей работе в Агрызе: «В Агрызе еще труднее было организовать женщин-татарок. Большинство неграмотные, угнетенные, там тоже много было богачей, имеющих 2-3 жен. По этому вопросу много пришлось поработать с мужьями согласно устных, письменных и тайных заявлений молодых жен. Нам приходилось созывать в райком мужей, разъяснять законы о многоженстве, ставить перед ними вопрос. Или всех жен содержать одинаково обслуживанием по всем вопросам добровольно или разводиться в согласии с разделением богатства по количеству семьи. Или же передаем в суд, где будут защищать интересы матери и ребенка, давали срок на размышление и принимались меры. Но большинство мужчин оставались с первыми женами, т.к. у ней больше детей и ему оставалось больше имущества и ценностей. А молодо-жены (молодые жены. – Авт.) рады были освободиться от старых мужей, даже без всяких ценностей, лишь бы устроить их на работу и обеспечить жильем»24.
Таким образом, стремление татарских женщин к полигамии имело ограниченный характер. Распространение в 1920-е гг. упрощенных процедур расторжений браков, деятельность женсоветов, повышение общего уровня женской грамотности, обусловленное процессами эмансипации, сыграли значительную роль в судьбе женщины-татарки. Обратимся к соотношению количества разведенных женщин и мужчин по материалам демографической переписи 1926 г. (см. таблицу № 3). Наиболее заметно это соотношение прослеживается в татарской среде: преобладание разведенных женщин над разведенными мужчинами в 4,8 раз по сравнению с аналогичными показателями у русского и прочего населения (в 2,5 раза). Между тем развод оставался достаточно редким явлением в мусульманской среде. Одно из доказательств тому – материалы обследования, проведенного сотрудниками Татарского статистического управления в июле 1926 г. в ряде татарских и русских селений Мамадышского кантона. Проведенная работа показала высокую степень влияния религиозных традиций на повседневную жизнь его жителей, был отмечен низкий уровень разводов среди мусульман25. Отсюда, отмеченная диспропорция в численности разведенных женщин и мужчин отразила практику расторжения полигамных браков, совершенных вынужденно, особенно в период голода и разрушения хозяйств.
Изменившееся отношение женщин к полигамии можно проиллюстрировать воспоминаниями Анастасии Павловны Шуваловой, женорганизатора в Свияжском кантоне: «Помню на волостное женское собрание Косяковской волости собрались по 150-200 человек татарок, уже ряд из них выступали на собрании, как сейчас помню бичевали председателя сельсовета деревни Нурлаты за то, что он имел еще до сих пор двух жен, оплевывали его, впоследствии кантисполком вынужден был его сменить»26.
Таким образом, можно резюмировать, что в первой четверти ХХ в. полигамные отношения среди татарского населения сохранялись. Это было обусловлено подчиненным положением женщины, влиянием экономических и религиозных причин. Объективным фактором активизации полигамии стали трагические события войны и масштабного голода начала 1920-х гг., приведшие к массовому разорению хозяйств. Не удивительно, что инициатором полигамных браков выступила определенная часть самого женского населения, не видевшая иной возможности в защите своих социальных и имущественных интересов. В этих условиях полигамия проявила свое действие в качестве механизма сохранения стабильности традиционных хозяйственных, культурных и семейных отношений.
Между тем, влияние этого механизма имело в большей мере компенсаторный, а потому и ограниченный характер. Распространяемая в последующие годы культура эмансипации привела к определенной дестабилизации устоявшегося социального порядка, препятствовавшего женщине реализовать свои личные и социальные права. Влияние модернистских тенденций оказалось необходимо для последующего избавления культуры традиционных семейных отношений от ее наиболее архаичных форм. Таким образом, нормализация социально-экономической жизни в совокупности с влиянием процессов модернизации привели к последующему укреплению моногамии как основы семейной жизни татарского населения.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Решетов А. М. О полиандрии и полигамии у тибетцев (в связи с проблемой их общественного строя) // Центральная Азия и Тибет. – Новосибирск, 1972. – С. 68-72; Гавриш И. В. Полигамия в брачном праве ислама и России (перспективы сближения позиций) // Религиоведение. – 2015. – № 1. – С. 139-147; Лурье С. В. Современный опыт полигамных семей в среде российских мусульман: нарративный анализ // Петербургская социология сегодня. – 2016. – № 7. – С. 243-277.
2. Мороз А. Б. Мужчина в кругу своих жён // Многоженство на Русском Севере / Мужской сборник. Вып. 1. Мужчина в традиционной культуре. – М., 2001. – С. 48-53; Миримова А. А. Объективные и субъективные факторы возникновения полигамии в обществе // Исламоведение. – 2010. – № 4. – С. 96-106; Гиниятуллина Г. Г. Государственная политика в отношении в семьи в Башкирии в 1917-1941 гг. Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Уфа, 2017; Бибикова О. П. Полигамия на постсоветском пространстве // Россия и мусульманский мир: Научно-информационный бюллетень / РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. глобальных и региональных проблем. – М., 2019. – № 3 (313). – 117 c.
3. Хабибуллина А. М. Положение женщины в татарском обществе в конце XVII – первой половине XIX вв. (на материалах Казанской губернии): дис. … канд. ист. наук. – Казань, 2011.
4. Казанская губерния: [ч. 1-2] / Составил полковник А. Ф. Риттих. – Казань: Типография Императорского Казанского университета, 1870. – 2 т. – С. 27.
5. Народы России: этнографические очерки. – Т. 2. – СПб.: издание редакции журнала «Природа и люди», 1880. – С. 18.
6. Там же.
7. Гиниятуллина Г. Г. Государственная политика в отношении в семьи в Башкирии в 1917-1941 гг. Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Уфа, 2017. – С. 18.
8. Габдрафикова Л. Р. Формирование стиля жизни татарского буржуазного общества (вторая половина XIX – начало XX века). Автореф. дис. … д-ра ист. наук. – Казань, 2013. – С. 42.
9. Народы России: этнографические очерки... – С. 18.
10. Подсчитано по данным: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897. Т. ХIV. Казанская губерния. – СПб., 1904. – С. 160.
11. Там же. – С. 161; ЦСУ СССР. Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Т. 3. – М., 1930. – С. 119.
12. Отчет студента ТКУ Иванова Ивана, командированного для прохождения Октябрьских торжеств в Кайбицкий район, о проделанной работе // ГА РТ, ф. П-15, оп. 2, д. 342, л. 88.
13. Приложение № 2 к информационной сводке Татарского отдела ОГПУ № 8 за время с 18 по 23 марта 1927 г. // ГА РТ, ф. П-15, оп. 2, д. 355, л. 19.
14. Информационная сводка Татарского отдела ОГПУ № 11 за время с 8 по 17 апреля 1926 г. // ГА РТ, ф. П-15, оп. 2, д. 92, л. 228.
15. Заключение инструктора женотдела Арского канткома ВКП(б) тов. Каюмовой по обследованию Арской волости по работе среди женщин с 21 по 26 сентября 1926 г. // ГА РТ, ф. П-2, оп. 1, д. 13, л. 15.
16. Ленин В. И. О задачах женского рабочего движения в Советской республике. Речь на IV Московской общегородской беспартийной конференции работниц 23 сентября 1919 г. // Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В. И. О женском вопросе. – М., 1971. – С. 99.
17. Ленин В. И. К женщинам-работницам / Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В. И. О женском вопросе. – М., 1971. – С. 105.
18. Кодекс о браке и семье в РСФСР Электронный ресурс. Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102010194&backlink=1&&nd=102010117
19. Шигаев И. Дополнение УК РСФСР главой Х «О преступлениях, составляющих пережитки родового быта» // Еженедельник советской юстиции. – 1928. – № 15. – С. 466.
20. Там же. – С. 468.
21. Уголовный Кодекс РСФСР 1926 года. Электронный ресурс. Режим доступа https://docs.cntd.ru/document/901757374
22. Постановление Президиума ЦИК СССР «О правах трудящихся женщин советского Востока и необходимости борьбы со всеми видами их закрепощения в
области экономической и семейно-бытовой». Электронный ресурс. Режим доступа. https://www.alppp.ru/law/konstitucionnyj-stroj/prava-svobody-i-objazannosti-cheloveka-i-grazhdanina/13/postanovlenie-prezidiuma-cik-sssr-ot-13-02-1925.html
23. О работе среди женщин в районах и в городе Казани с 1920 по 1927 гг. // ГА РТ, ф. П-30, оп. 3, д. 2185, л. 46.
24. Там же, л. 48.
25. Материалы обследования ТСУ в Мамадышской кантоне // ГА РТ, ф. Р-1296, оп. 12, д. 202, л. 27, 29.
26. ГА РТ, ф. П-30, оп. 3, д. 3097, л. 21.
Список литературы
Бибикова О. П. Полигамия на постсоветском пространстве // Россия и мусульманский мир: Научно-информационный бюллетень. – М., 2019. – № 3 (313). – 117 c.
Габдрафикова Л. Р. Формирование стиля жизни татарского буржуазного общества (вторая половина XIX – начало XX века). Автореф. дис. … д-ра. ист. наук. – Казань, 2013.
Гавриш И. В. Полигамия в брачном праве ислама и России (перспективы сближения позиций) // Религиоведение. – 2015. – № 1. – С. 139-147.
Гиниятуллина Г. Г. Государственная политика в отношении в семьи в Башкирии в 1917-1941 гг. Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Уфа, 2017.
Лурье С. В. Современный опыт полигамных семей в среде российских мусульман: нарративный анализ // Петербургская социология сегодня. – 2016. – № 7. – С. 243-277.
Миримова А. А. Объективные и субъективные факторы возникновения полигамии в обществе // Исламоведение. – 2010. – № 4. – С. 96-106.
Мороз А. Б. Мужчина в кругу своих жён // Многоженство на Русском Севере / Мужской сборник. Вып. 1. Мужчина в традиционной культуре. – М., 2001. – С. 48-53.
Хабибуллина А. М. Положение женщины в татарском обществе в конце XVII – первой половине XIX вв. (на материалах Казанской губернии): дис. … канд. ист. наук. – Казань, 2011.
References
Bibikova O. P. Poligamiya na postsovetskom prostranstve [Polygamy in the post-Soviet region]. IN: Rossiya i musul’manskii mir: Nauchno-informatsionnyi byulleten [Russia and the Muslim World: Scientific and Information Bulletin]. Moscow, 2019, no. 3 (313), 117 p.
Gabdrafikova L. R. Formirovanie stilya zhizni tatarskogo burzhuaznogo obshchestva (vtoraya polovina XIX – nachalo XX veka). Avtoref. dis. … d-ra. ist. nauk [The formation of the way of life of the Tatar bourgeois society (second half of the XIXth – beginning of the XXth centuries). Abstract... diss. doc. Sci.]. Kazan, 2013.
Gavrish I. V. Poligamiya v brachnom prave islama i Rossii (perspektivy sblizheniya pozicij) [Polygamy in the marriage law of Islam and Russia (prospects for convergence of positions)]. IN: Religovedenie [Religious Studies], 2015, no. 1, pp. 139-147.
Giniyatullina G. G. Gosudarstvennaya politika v otnoshenii v sem’i v Bashkirii v 1917-1941 gg. Avtoref. dis. … kand. ist. nauk [The State policy regarding to the family in Bashkiria in 1917-1941. Abstract of the dissertation... cand. ist. Sci.]. Ufa, 2017.
Lurie S. V. Sovremennyj opyt poligamnyh semej v srede rossijskih musul’man: narrativnyj analiz [The Modern experience of polygamous families among the Russian Muslims: the narrative analysis]. IN: Peterburgskaya sotsiologiya segodnya’ [St. Petersburg Sociology Today], 2016, no. 7, pp. 243-277.
Mirimova A. A. Ob”ektivnye i sub”ektivnye faktory vozniknovelniya poligamii v obshchestve [The Objective and subjective factors in the emergence of the polygamy in the society]. IN: Islamovedenie [The Islamic Studies], 2010, no. 4, pp. 96-106.
Moroz A. B. Muzhchina v krugu svoih zhyon [A man in the circle of his wives]. IN: Mnogozhenstvo na Russkom Severe. Muzhskoi sbornik. Vyp. 1. Muzhchina v traditsionnoi kul’ture [The Polygamy in the Russian North. The Men’s collection. Vol. 1. A man in a traditional culture]. Moscow, 2001, pp. 48-53.
Khabibullina A. M. Polozhenie zhenshchiny v tatarskom obshchestve v konce XVII – pervoj polovine XIX vv. (na materialah Kazanskoj gubernii: dis… kand. ist. nauk. [The position of the women in the Tatar society at the end of the XVIIth – first half of the XIXth centuries. (based on materials from the Kazan province: Diss. ... cand. ist. Sci.)]. Kazan, 2011.
Сведения об авторах
Давыдов Денис Владимирович, доктор исторических наук, профессор Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева – КАИ, e-mail: davdv@mail.ru
Федорова Наталия Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, e-mail: nfjodoro@yandex.ru
About the authors
Denis V. Davydov, Doctor of Historical Sciences, Professor of Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev – KAI, e-mail: davdv@mail.ru
Natalia A. Fedorova, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, e-mail: nfjodoro@yandex.ru
В редакцию статья поступила 28.03.2025, опубликована:
Давыдов Д. В., Федорова Н. А. Полигамия в семейной культуре татарского сельского населения в 1920-е гг. (на материалах ТАССР) // Гасырлар авазы – Эхо веков Echo of centuries. – 2025. – № 2. – С. 58-69.
Submitted on 28.03.2025, published:
Davydov D. V., Fedorova N. A. Poligamiya v semeinoi kul’ture tatarskogo sel’skogo naseleniya v 1920-e gg. (na materialakh TASSR) [The Polygamy in the family culture of the Tatar rural population in the 1920s (based on the materials of the TASSR)]. IN: Gasyrlar avazy – Eho vekov [Echo of centuries], 2025, no. 2, рр. 58-69.
[1] Составлено по данным: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897. – Т. XIV. Казанская губерния. – СПб., 1904. – С. 160-161.
[2] Составлено по данным: ЦСУ СССР. Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Т. 3. – М., 1930. – С. 119.
[3] Составлено по данным: ЦСУ СССР, Всесоюзная перепись населения 1926 г. – Т. 37. – М., 1930. – С. 119.














