Р. К. Старовойтов, Д. Ш. Муфтахутдинова. Указ «Об укреплении начал веротерпимости» и попытки его воплощения в жизнь
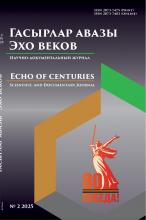
УДК 93/94
EDN XCGJJN
Указ «Об укреплении начал веротерпимости» и попытки его воплощения в жизнь
Р. К. Старовойтов,
Казанский государственный
институт культуры,
Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
Д. Ш. Муфтахутдинова,
Российский исламский институт,
Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
The Decree “On Strengthening the Principles of the Religious Tolerance”
R. K. Starovoitov,
Kazan State Institute of Culture,
Kazan, the Republic of Tatarstan, the Russian Federation
D. Sh. Muftakhutdinova,
Russian Islamic Institute,
Kazan, the Republic of Tatarstan, the Russian Federation
Аннотация
Статья посвящена анализу текста и правоприменения Указа «Об укреплении начал веротерпимости», особенно в части его пункта 3, создающего, но и ограничивающего условия для перехода из Православия в Ислам, сбору прочей нормативно-правовой базы, релевантной вопросу о таком переходе и действовавшей в Российской империи в 1905-1917 гг. На примере архивного документа, содержащего пояснения к жалобе казашки Бородихиной, и с опорой на действовавшее в рассматриваемый период законодательство показываются бюрократические процедуры имперских властей, являющиеся стандартной реакцией на прошение о переводе из числа православных в число мусульман. Демонстрируется бесшовная вплетенность в эти процедуры синодальной церкви с переходом прошения от административной власти к церковной и обратно. С опорой на прецедент раскрывается интерпретация властными инстанциями правовых норм. В заключение делается вывод, что несмотря на декларируемую свободу совести и декриминализацию выхода из православия в Российской империи в 1905-1917 гг., юридически переход из православия в ислам оставался невозможным для лиц, крещенных от рождения и происходивших из православных семей, что приводило к поражению таких лиц не только в праве на свободу вероисповедания, но и в праве на заключение брака и родительских правах.
Abstract
This article is devoted to the analysis of the text and law enforcement of the Decree “On Strengthening the Principles of Religious Tolerance”, especially in relation to its clause 3, which creates but also restricts the conditions for conversion from Orthodox Christianity to Islam, and the collection of other regulatory and legal frameworks relevant to the issue of such conversion that were in force in the Russian Empire in 1905-1917. On the example of the archival document including explanations to the complaint of Kazakh woman Borodikina and based on the legislation in force during the period under consideration, the bureaucratic procedures of the imperial authorities, which were a standard response to requests for conversion from Orthodoxy to Islam, are demonstrated. The seamless integration of the Synodal Church into these procedures is demonstrated by the transfer of the request from the administrative authorities to the church and back. Based on the precedent, the interpretation of legal norms by the authorities is revealed. In conclusion, the authors conclude that, despite the declared freedom of conscience and decriminalization of the withdrawal from Orthodoxy in the Russian Empire of 1905-1917, the legal transition from Orthodoxy to Islam remained impossible for the persons born and raised in the Orthodox families, which led to the defeat of such persons not only in the right to freedom of religion, but also in the right for the marriage and parental rights.
Ключевые слова
Российская империя, Указ «Об укреплении начал веротерпимости», веротерпимость, выход из православия, переход в ислам, отпадения, христианство, ислам, конфессиональная политика, прозелитизм, свобода совести.
Keywords
The Russian Empire, The Decree “On Strengthening the Principles of the Religious Tolerance”, religious tolerance, leaving Orthodoxy, conversion to Islam, apostasy, Christianity, Islam, confessional policy, proselytism, freedom of conscience.
За три предшествующих десятилетия введено в научный оборот множество архивных документов, отражающих правовое положение мусульман в Российской империи, активно проводится осмысление мусульманскими народами бывшей Российской империи своего прошлого в ее составе. Накопленный таким образом объем материала позволяет переходить к более высокой детализации и проработке периферийных тем, как, например, сохранявшаяся после провозглашения свободы совести невозможность изменения религии на Ислам для урожденных православных, юридическая невозможность смешанного брака мужчины-мусульманина и женщины-православной и узаконивание детей от него, невозможность воспитания незаконнорожденного ребенка в официальной вере его отца и фактической вере матери.
Также современная историческая наука проявляет тенденцию к переходу на микроуровень, предполагающий в том числе познание крупных исторических процессов «снизу» через факты индивидуальной биографии отдельных людей и семей. Этими соображениями определяется актуальность данной статьи.
На примере документа, из Центрального государственного архива Республики Казахстан1, мы можем увидеть политику властей Российской империи в отношении лиц, фактически перешедших из православия в ислам, смешанных браков мусульман и православных, учета и воспитания детей, рожденных в них, в условиях декларируемой после Революции 1905-1907 гг. веротерпимости. Будучи показательным в части правоприменения Указа «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 (30) апреля 1905 г. и в особенности его пункта 3, документ также раскрывает личную семейную драму женщины, поверившей в название Указа, но недостаточно грамотной, чтобы понять его юридический смысл, и такое свидетельство частной драмы конкретного простого человека, дошедшее до нас более чем через столетие, представляется не менее важным.
Документ представляет собой сопроводительную записку к телеграмме казашки А. И. Бородихиной в адрес канцелярии Степного генерал-губернатора МВД с жалобой на, по ее мнению, неправомерные действия Семипалатинского губернатора, не разрешившего ее официальный переход из православия в ислам. В нем нижестоящий чиновник излагает вышестоящему получателю жалобы суть изначального обращения Бородихиной, комплекс принятых им мер и мотивировку принятого им решения.
Для первичного понимания необходимо вспомнить, что в результате революционных событий 1905 г. и давления на царя со стороны наиболее здравомыслящей части элит был издан «Манифест об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г., на декларативном уровне даровавший российским подданным основные гражданские права и свободы, включая свободу совести. Конкретизируя положения Манифеста 17 октября и замысливаясь как основа последующей структуры российского права, конституция без наименования конституции, 23 апреля 1906 г. были опубликованы «Высочайше утвержденные Основные Государственные Законы». Статья 392 «Основных законов» формулирует свободу совести следующим образом: «Российские подданные пользуются свободою веры. Условия пользования этою свободою определяются законом»3, – и мы сразу можем обратить внимание на разрешительный порядок пользования основной свободой. В Своде законов Российской империи добавляется также глава VII «О вере», и в контексте представленной темы нам интересна ст. 67, гласящая: «Свобода веры присвояется не токмо Христианам иностранных исповеданий, но и Евреям, Магометанам и язычникам (а): да все народы, в России пребывающие, славят Бога Всемогущаго разными языки по закону и исповеданию праотцев своих, благословляя царствование Российских Монархов и моля Творца вселенной о умножении благоденствия и укреплении силы Империи»4, и в этой поэтичной и торжественной формулировке при внимательном прочтении обнаруживается значимый юридический нюанс – право на исповедание нехристианских религий распространяется исключительно на лиц, рожденных в этих религиях. Таковы «конституционные» положения, касательно свободы совести, действовавшие в Российской империи во время рассматриваемых нами событий.
Однако документ, определявший практику и рамки религиозного самоопределения, готовился с 1903 г. и вышел еще за полгода до Манифеста, хотя и полностью согласуется с позднейшей правовой основой. Это Указ «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 (30) апреля 1905 г.5 Указ декриминализовал и установил право совершеннолетнего лица на переход из одной христианской конфессии в другую христианскую же конфессию, существенно улучшил правовое положение старообрядцев, католиков, униатов и протестантов. Однако же нехристианским религиям он дал лишь признание их права на изолированное существование. Пункт 3 Указа гласит: «3) Установить, в дополнение к сим правилам (пп. 1 и 2), что лица, числящиеся православными, но в действительности исповедующие ту нехристианскую веру, к которой до присоединения к православию принадлежали сами они или их предки, подлежат по желанию их исключению из числа православных». Таким образом, Указ предусматривал выход из православия в нехристианскую религию лишь для тех случаев, когда проситель или его предки были записаны в православные формально, но никогда в действительности из своей религии не выходили. Вводя этот пункт, центральное правительство стремилось устранить последствия приписок и манипуляций с отчетностью на местах. Теоретически ей мог бы попытаться воспользоваться и неофит-христианин из числа нехристианских народов, если бы вдруг захотел поменять свое решение, но человеку, рожденному в христианстве и происходящему из христианской семьи, такой возможности данная норма не давала.
Итак, из рассматриваемого документа (пояснительной записки к телеграмме с жалобой) мы можем реконструировать следующую картину. Казашка Бородихина Аграфена Ивановна, проживавшая в городе Павлодаре (ныне Республика Казахстан), русская и крещеная от рождения, с 13 лет имела намерение к переходу в ислам. Став взрослой фактически такой переход совершила, исполняла мусульманские обряды и предписания, не исполняя христианских, жила в фактическом браке с мусульманином татарином Ниязовым, с 1910 г. имела от него сына. Тем не менее, с точки зрения действующего законодательства таковой брак официально не мог быть заключен, так как гражданское состояние учитывалось исключительно по факту религиозного обряда. Их ребенок считался незаконнорожденным и мог «появиться» для государства исключительно посредством крещения: материнство и религиозная принадлежность матери была известна, в то время как для возникновения родительских прав и обязанностей отца одного признания отцовства с его стороны было недостаточно. Официально принять собственного ребенка в семью официально на правах усыновления и открыто воспитывать его в своей вере Ниязов также не мог. Указ «Об укреплении начал веротерпимости» в п. 4 оговаривает возможность принятия на воспитание детей неясной религиозной принадлежности членами неправославных христианских общин, но мусульман этот пункт не касается, и мы помним, что в отношении всех перечисленных выше норм действует принцип «что не разрешено, то запрещено».
Находящаяся в столь униженном и бесправном положении двадцативосьмилетняя Аграфена, вероятно, что-то слышала о том, что в стране, будто бы, наступила религиозная свобода, и человек волен сам определять свою конфессиональную принадлежность, но ее грамотности было недостаточно, чтобы понять содержание соответствующих правовых норм, и в декабре 1911 г. она подала прошение о ее официальном переводе из числа православных в число мусульман на имя Семипалатинского губернатора. Это решение стало роковым для нее и ее семьи, поскольку далее в строгом соответствии с предписанными процедурами запускается бюрократическая машина, вряд ли бы обнаруживавшая ее, если бы она сама не привлекла к себе внимание.
Канцелярия Семипалатинского губернатора запрашивает сведения о Бородихиной у Семипалатинского епископата, оттуда запрос уходит к Павлодарскому протоиерею, от протоиерея к Павлодарскому уездному начальнику – здесь хорошо видно, что духовные власти вплетены в иерархию государственного управления, и дело легко и по единым процедурам переходит из одной ветви власти в другую, от исполнительной к духовной и обратно. Проверка прошения приходит к единственно возможным выводам: основанием для выхода из Православия могла стать формальность входа в него и мусульманское происхождение, но просительница такого не имеет, и, следовательно, прошение удовлетворено быть не может.
Но попутно с выяснением происхождения просительницы, открылись и подробности ее личной жизни, после чего чиновники принялись устранять в ней нарушения, установленного законом и монаршей милостью порядка. Согласно показаниям свидетелей Бородихина воспитывает крещеного двухлетнего сына Леонида в татарских обычаях и совершает над ним мусульманские религиозные обряды, а также ждет от Ниязова второго ребенка, которого явно будет воспитывать так же. Хотя вероотступничество само по себе на этот момент декриминализовано, в Уголовном уложении 1903 г. (с изменениями 1906 г.) сохраняется ст. 88 гл. II, гласящая: «Родитель или опекун, обязанный по закону воспитывать своего или находящегося под его опекой, недостигшего четырнадцати лет, малолетнего в правилах христианской веры, виновный в учинении над ним религиозных обрядов нехристианского вероисповедания, наказывается: заключением в крепости не свыше трех лет»6. В целях пресечения длящегося преступления Семипалатинский губернатор отдает распоряжение сына Леонида у Бородихиной изъять и передать на воспитание уряднику поселка Чернорецкого Федору Гордеевичу Бородихину, очевидно родственнику матери, пользующемуся доверием власти, а за христианским воспитанием в будущем второго ребенка следить. Остаются открытыми вопросы о том, насколько законно изъятие ребенка в административном порядке и не заведение уголовного дела. Очевидно решение ориентировано в первую очередь на эффективность, а не законность.
Год спустя после первого прошения Бородихина подает жалобу в вышестоящую канцелярию на имя Степного генерал-губернатора на отказ от перехода в ислам Семипалатинским губернатором, хотя юридические мотивировки ей были ранее даны под расписку. Из сопроводительной записки к этой жалобе мы и узнаем об этой истории. Мы не знаем доподлинно, чем закончилось дело, но перспектив у этой жалобы, как мы видим из вышеизложенных нормативных документов, не было.
Через четыре с небольшим года начнется революция, и не удивительно, что на ранних ее этапах российские мусульмане, неудовлетворенные весьма узкими рамками веротерпимости образца 1905 г. и подвергавшиеся дискриминации со стороны смыкающихся церковного и административного аппаратов Российской империи и после объявления свободы совести, активно поддержат наиболее радикальные ее силы в лице большевиков.
Таким образом, мы приходим к выводу, что несмотря на декларируемую свободу совести в Российской империи 1905-1917 гг. для лиц, крещеных в православие от рождения и происходящих из православных семей, переход в ислам или любую другую нехристианскую религию, хотя и декриминализован, но юридически был невозможен. Это приводит к их поражению в правах в части признания государством их браков и детей, а само обращение за таким признанием чрезвычайно опасно для просителя, и в случае воспитания ребенка в избранной религии это приводило к изъятию детей из семьи и могло закончиться также уголовным преследованием.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК), ф. 64, оп. 1, д. 1265, л. 5-5 об., 6.
2. Нумерация дана так, как она была задана при издании «Основных законов» отдельным документом. В составе Свода законов Российской Империи нумерация статей в них смещена в связи с добавлением между первой и второй главами дополнительных глав.
3. Полное Собрание законов Российской Империи. Собрание третье. Т. XXV. 1905 г. Отд. 1. – СПб.: Государственная типография, 1908. – № 26125. – С. 257-258.
4. Там же. – Т. XXVI. 1906 г. Отд. 1. – СПб.: Государственная типография, 1909. – № 27805. – С. 459.
5. ЦГА РК, ф. 64, оп. 1, д. 1265, л. 5-5 об., 6.
6. Свод законов Российской Империи: Полн. текст всех 16 т., соглас. с послед. продолж., постановлениями, изд. в порядке ст. 87 Зак. осн., и позднейшими узаконениями: В 5 кн. / Сост. Н. П. Балканов, С. С. Войт и В. Э. Герценберг; Под ред. и с примеч. И. Д. Мордухай-Болтовского. – Изд. неофиц. – СПб.: Русское книжное т-во «Деятель», 1912. – Кн. 1. – Т. 1. – Ч. 1. – С. 6.
Жалоба казашки А. И. Бородихиной Степному генерал-губернатору
12 января 1913 г.
№ 849
Представляя при сем вследствие надписи Канцелярии Вашего Высокопревосходительства от 18 декабря мин[увшего] года за № 10733, телеграмму казачки[1] Аграфены Ивановны Бородихиной, от 17 декабря мин[увшего] года, жалующейся на мои неправильные действия по поводу не разрешения ей перейти из православия в магометанство докладываю, что казачка Бородихина с вышеуказанным ходатайством обратилась в декабре месяце 1911 года. Прошение ее 9 января мин[увшего] года за № 309, было препровождено на распоряжение его преосвященству Преосвященнейшему Киприяну Епископу Семипалатинскому, а сим последним, как видно из уведомления его от 17 января того же года за № 72, направлено Павлодарскому уездному Благочинному протоерею Павлову для собрания надлежащих сведений и увещания Бородихиной, одновременно с препровождением прошения Бородихиной. Его преосвященству, были затребованы сведения от павлодарского уездного начальника о том, исповедовала ли она или предки ее ранее магометанскую религию и если да, то где состояла на причислении, где и в какой церкви крещена и уклонялась ли она от исполнения обрядов православной церкви, а также не имеется ли препятствий со стороны магометанского духовенства к переходу ее обратно в магометанство. С чем и было донесено Вашему Высокопревосходительству 9 января мин[увшего] года за № 309 с предоставлением копии прошения Бородихиной.
Из собранных по этому поводу сведений удостоверено, что просительница Аграфена Иванова Бородихина девица 28 лет, имеет сына Леонида 1 года и 8 месяцев (к 21 января 1912 года), состоит на причислении в пос. Чернорецком Павлодарского уезда, крещена в церкви этого же поселка, магометанскую религию ранее ни она, ни ее предки не исповедовали. За последние 4 года уклоняется от исполнения обрядов православной церкви, и еще с 13-летнего возраста имела желание перейти в магометанство.
Ребенок ее прижитый с мусульманином крещен в Павлодарской Троицкой церкви, и что она находится в услужении у того же мусульманина в городе Павлодаре.
На основании вышеприведенных сведений 10 февраля 1912 года за № 2090, через Павлодарского уездного начальника было объявлено Бородихиной под расписку, что так как ни сама она ни предки ее ранее магометанской религии не исповедовали, то ходатайство ее о разрешении ей с сыном Леонидом перейти в магометанскую религию не может быть удовлетворено.
Его преосвященство преосвященный Кирилл Семипалатинский возвращая при отношении от 21 февраля 1912 г. за № 3, прошение Бородиной уведомил что она, находясь под сильным влиянием мусульманина Ниязова, не уступает мерам пастырского увещевания.
В виду такого положения вещей, а также в предупреждение, чтобы Бородихина не воспитала своего внебрачного сына в магометанской религии. 20 апреля 1912 года за № 6758, был прошен атаман 3 военного отдела Сибирского казачьего войска о назначении 10 ноября мин[увшего] года за № 87, причт пос. Чернорецком Павлодарского уезда сообщая, что девица Бородихина и до настоящего времени имеет преступное сожительство с мусульманином Ниязовым в городе Павлодаре, что внебрачный ее сын находится так же при ней и что она уже одела его в мусульманское платье, совершает над ним намаз, омовения и другие обряды магометанской религии, а также, что Бородихина по словам ее матери находится в последнем периоде беременности, просил о возможно скорейшем отобрании от нее сына Леонида и передачи его избранному опекуну, уряднику поселка Чернорецкого Федору Гордееву Бородихину, а также и о наблюдении чтобы вновь родившиеся у ней ребенок был крещен.
В виду вышеизложенного мною 28 ноября 1912 г. за № 19531, было предложено павлодарскому уездному начальнику о немедленном отобрании от Бородихиной внебрачного ее сына Леонида и передачи его на воспитание вышеуказанному опекуну, а также наблюсти затем, чтобы родившийся ребенок обязательно был крещен и своевременно передан на попечение того же опекуна. Распоряжение это Павлодарским уездным начальником исполнено и дети Бородихиной, как видно из представленной подписки опекуна Бородихина от 1 декабря мин[увшего] года, им получены под свою опеку.
Сообщая Вышеизложенное на благоустроение нашего Высокопревосходительства, присовокупляю, что ходатайство Бородихиной о разрешении ей с сыном перейти из православия в магометанство оставлено без удовлетворения на том основании п.3 Высочайше утвержденных 17 апреля 1905 года Правил об укреплении начал веротерпимости.
ЦГА РК, ф. 64, оп. 1, д. 1265, л. 5-5 об., 6.
Список литературы
Арапов Д. Ю. Система государственного регулирования ислама в Российской империи (последняя треть XVIII – начало XX вв.). – М.: Изд-во МГЛУ, 2004. – 288 с.
Воробьёва Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике российского самодержавия: вторая половина XIX века – 1917 г. Автореф. д-ра ист. наук. – СПб., 1999. – 12 с.
Муфтахутдинова Д. Ш. Эволюция конфессиональной политики российского государства по отношению к мусульманам Поволжья и Приуралья (вторая половина ХVI – начало ХХ в.): Монография. – Казань: Рос. ислам. ун-т, 2018. – 350 с.
Сафонов А. А. Проблемы свободы совести и вероисповеданий в общественных дискуссиях начала ХХ столетия // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2007. – № 2 (271). – С. 203-211.
Шингарева Н. В. Проблема свободы совести и веротерпимости в России в начале ХХ в. // Вестник Московского университета МВД России. – 2014. – № 11. – С.41-44.
References
Arapov D. Yu. Sistema gosudarstvennogo regulirovaniya islama v Rossiiskoi imperii (poslednyaya tret’ XVIII – nachalo XX vv.) [The System of the state regulation of Islam in the Russian Empire (the last third of XVIIIth – beginning of the XXth century)]. Moscow: Izd-vo MGLU publ., 2004, 288.
Vorob’eva E. I. Musul’manskii vopros v imperskoi politike rossiiskogo samoderzhaviya: vtoraya polovina XIX veka – 1917 g. Avtoref. d-ra ist. nauk [The Muslim Question in the Imperial Policy of Russian Autocracy: Second Half of the 19th Century – 1917. Abstract of Doctor of Historical Sciences thesis]. St. Petersburg, 1999, 12 р.
Muftakhutdinova D. Sh. Evolyutsiya konfessional’noi politiki rossiiskogo gosudarstva po otnosheniyu k musul’manam Povolzh’ya i Priural’ya (vtoraya polovina ХVI – nachalo ХХ v.): Monografiya [The evolution of the Russian state’s religious policy towards Muslims in the Volga and Urals regions (second half of the XVIth century – early XXth century): Monograph]. Kazan: Ros. islam. un-t publ., 2018, 350 р.
Safonov A. A. Problemy svobody sovesti i veroispovedanii v obshchestvennykh diskussiyakh nachala ХХ stoletiya [The Issues of freedom of conscience and religion in the public debates at the beginning of the XXth century]. IN: Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Pravovedenie [News of higher education institutions. Law], 2007, no. 2 (271), pp. 203-211.
Shingareva N. V. Problema svobody sovesti i veroterpimosti v Rossii v nachale ХХ v. [The problem of freedom of conscience and religious tolerance in Russia at the beginning of the XXth century]. IN: Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii [The Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 2014, no. 11, pp. 41-44.
Сведения об авторах
Старовойтов Роман Константинович, студент 2 курса Казанского государственного института культуры, е-mail: starovoitov-rk@yandex.ru
Муфтахутдинова Диляра Шамилевна, кандидат исторических наук, доцент Российского исламского института, е-mail: dilaratatar@mail.ru
About the authors
Starovoitov Roman Konstantinovich, 2 year student, Kazan State Institute of Culture, e-mail: starovoitov-rk@yandex.ru
Muftakhutdinova Dilyara Shamilevna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Russian Islamic Institute, e-mail: dilaratatar@mail.ru
В редакцию статья поступила 24.02.2025, опубликована:
Старовойтов Р. К., Муфтахутдинова Д. Ш. Указ «Об укреплении начал веротерпимости» и попытки его воплощения в жизнь // Гасырлар авазы – Эхо веков Echo of centuries. – 2025. – № 2. – С. 70-77.
Submitted on 24.02.2025, published:
Starovoitov R. K., Muftakhutdinova D. Sh. Ukaz “Ob ukreplenii nachal veroterpimosti” i popytki ego voploshcheniya v zhizn’ [The Decree “On Strengthening the Principles of the Religious Tolerance”]. IN: Gasyrlar avazy – Eho vekov [Echo of centuries], 2025, no. 2, pp. 70-77.
[1] Так в документе.














